Имя Артык [23] Артык — лишний (узб.)
дано было предку из–за странного нароста, как шестого пальца на руке. Через каждые два поколения род повторял этот свой необычный знак на ком–нибудь из мужчин, не трогая женщин, должно быть щадя их красивые ручки («Целую, мадам! Целую, мадам!» — шептал Душан, смеясь). Но и у мужчин шестой палец, наверное, из–за особого противостояния планет, с каждым столетием делался все короче, пока род вдруг внутренне совсем не зачах, не давая больше мальчиков. У Мир–Саттара двенадцать дочерей, Саид–Акбара — восемь, Мир–Кадыра — шесть дочерей. Ни одного мальчика, хотя и девочки пошли на убыль, достигнув своего зенита у Мир–Вали, давшего роду шестнадцать девочек. После Мир–Кадыра Мир–Афзал дал четырех девочек, две из них — близнецы, умерли в один и тот же год, заболев нервным расстройством, хотя и жили в разных городах, в общем–то счастливой супружеской жизнью.
Что–то, должно быть, менялось в роду после этих близнецов, где–то бралась сила и хитрость, чтобы обмануть луну — планету женского начала, чтобы снова родился мальчик, но уже без нароста, с нормальной рукой, которого назвали на радостях Худойдод [24] Худойдод — данный милостиво (тадж.).
. Хотя радоваться вроде бы было нечему, потому что в Худойдоде чувствовалось, как порода устала, измельчала, неспособная более давать сильных мужчин, как раньше, пусть с наростом, шестым пальцем, но зато небезвольных, как Худойдод, который за десять лет пустил по ветру столько из наследства, сколько было заработано другими до него за пятьдесят лет. От него и пошла в роду поговорка: «Луну обманешь — солнце будет мстить».
Он уже знал, что солнце почитается как мужское, отцовское, начало. И понял, как из иронии просветления, мудрости постижения рождаются поговорки.
Сам он тоже… пусть скучноватый, обидчивый, но мудрый. Только странно, каким холодом веет от всех его мыслей, ничто бывшее в роду не взволнует, не смягчит, а ведь страдали, наверное, были трагедии из–за шестого пальца, дурачеств Худойдода. Но, может, чтобы понять так глубоко проникновенно, нужен холод сосредоточения, а удивление, тепло, сострадание, все, что вносит личное, субъективное, исказит, обманет?
Но ведь не должно же быть так, чтобы род захирел бесследно? Может, он мельчает и умирает лишь внешне, для обмана зависти делает вид, что уходит, не оставив после себя даже пепел на поверхности земли? И делает род это из–за любви к одному, чтобы этот один мог выразить потом и поведать миру о всех его страданиях, неведомых путях? И не есть ли этот один та великая личность, к рождению которой род настолько хиреет, что вокруг этой личности ходят и дышат лишь бледные призраки, а он, как непомерно выросшее дерево, высасывает из всех родных их соки, внося в их жизнь и судьбы, сам того не желая, одни лишь неудачи и недоразумения?
Кто был таким в их роду? Осталось ли его имя? Душан хотел бы, чтобы его все знали и любили, чтобы, услышав его имя, приходили и благодарили за что–то? За что? Чем он должен себя выразить?
Но пока его заботит простое: кто будет следующий в роду от него — девочка или мальчик? Гуль как–то, подыгрывая Наиму, сказала: какая удача, что мать родила ее девочкой… К чему она это сказала, он не расслышал, только помнит, как у нее что–то упало на пол, она присела, воскликнув, не успев прикрыть обнажившиеся колени. На правой ноге у нее родимое пятно коричневого цвета…
«А горлица с помятым крылом на крыше, наверное, воплощение прапрапрадеда Артыка», — подумал Душан, усмехнувшись. А ведь он верил когда–то в такое прямое превращение, жил этим, восторгаясь неведомыми жуткими ходами жизни, разгадка которых сулила радость.
А теперь время освобождало его от веры и заставляло, горько усмехаясь, отказываться от многого в себе, увидев это наивным и глупым. Он становился скептиком, находя ложное не вовне, как многие в его возрасте, не в других, а в себе, смеясь над своей тайной любовью к женщине–богомолу.
Оказалось, что читанное и узнанное может быть неверным, как прежняя история Зулейхи, которую, как он теперь узнал, считали не только порочной женщиной, клевещущей из–за своей неудовлетворенной похоти, но и святой из–за восторга и любви к прекрасному. Это было особенно удивительно — святость Зулейхи, потому что себя–то он отождествлял когда–то с Юсуфом Прекрасным. Что радует? Что больше нравилось ему в образе Зулейхи — порочность и злобность, которая была наказана, или добродетель и чувство прекрасного? Вот перемена: когда Душан был под защитой дома и историю Зулейхи воспринимал как библейскую легенду, он был рад тому, что зло наказано; сейчас же он как–то внутренне взбодрился от этой другой Зулейхи, ему больше нужно было добро в ней, эта святость, словно она теперь должна была его защитить.
Читать дальше
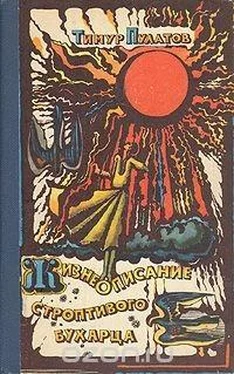





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



