— Тебя сюда из–за щеки положили? — спросил Акрам.
— Из–за горла…
— У тебя левая щека вздутая, заметил? — продолжал настойчиво Акрам.
— Это с рождения. Не вздутость, а форма, — ответил Душан, нисколько не смутившись, ибо давно переживал из–за странной формы лица, а теперь успокоился.
— Он не той стороной на свет выходил, — усмехнулся Наим. — Все ловко выныривали, держа голову прямо, а он примерял, как лучше выйти — этим ли боком или не этим? Осторожничал…
— Наверное, вылезая, знал, что будут бить в жизни, а, Шан, знал? — жестикулируя и корча какую–то немыслимо дурацкую гримасу, спросил Акрам.
А может, это ощущение формы, незаметное внутреннее изменение, пришло к Душану от самой боли, которая, начавшись в ногах, прошла потом лихорадкой к горлу и голове, и это движение боли по мельчайшим сосудам тела, жар крови и заставили его невольно и неосознанно почувствовать телесную жизнь, эластичность, упругость тела, его способность приспосабливаться и меняться внутри себя во время болезни. И причудливым ходом мысль потом пошла от его немощного, ослабевшего тела к телу Наима, которое Гуль так тщательно натирала мазью.
«У Пай–Хамбарова красивое лицо, — подумал Душан. — У матери… В Зармитане мужчины некрасивые, глаза узкие, лица черные. А много красивых женщин. Бабушка была некрасивой, но любимой…»
Душан вспомнил слова бабушки о том, что только животные не болеют, а больное животное становится похожим на человека, зато больной человек снова превращается в животное, если поддается своей болезни — она так унижает человека, что он уже не способен возвыситься над страданиями.
Душан почувствовал, как кто–то подошел к его кровати, подумал: дежурная сиделка, но, когда сняли с его головы одеяло и задышали взволнованно на его вспотевшее лицо, увидел Наима.
— Успел я? Никто не заметил мое отсутствие? — спросил он Душана и, не дождавшись ответа, сел на край его кровати, чтобы поделиться тем, что его так взволновало.
— Бегу я, Шан… В общем, Гуль увидела, что я бегаю, чуть не заплакала от досады. Я ей объяснил, что аккуратно вытер ее мазь со спины, прежде чем выйти…
Душан почти не вникал в смысл его слов, он смотрел в лицо Наима, и ему показалось, что Наим такой непосредственный, восторженный и говорит так, будто они ровесники с Душаном. Чтобы не казаться обиженным, Душан спросил:
— Она зармитанская? Здесь живет?
— Конечно! Гонит меня обратно, говорит: после натирания нельзя даже по теплой комнате ходить, а я на улицу выбежал…
Душан вылез из–под одеяла и сел на подушку, чувствуя, что Наим в своем восторге неумен, нестрашен, и больше кажется беспомощным, ждущим какого–то участия, сказал:
— Нет, она не зармитанская. Ты узнай у нее…
— А это зачем? — не понял Наим. — Какая разница?
— У нее лицо интересное, утонченное, — тихо сказал Душан, думая сделать Наиму приятное. — Может, переехала из Бухары?
Наим встал, удивленно глядя на Душана и переспрашивая:
— Утонченное? Да ты бухарский националист, Шан! — и бросился обнимать Душана, повалил его на кровать. Душан же, боящийся таких буйств, как–то вымученно смеялся, слабо отбиваясь, и так, пока шум их и возню не услышала сиделка из соседней палаты.
А перед самым сном, когда Душана разморило от тепла и покоя и он лежал, умиротворенный примирением с Наимом, Наим вдруг снова обратился к нему:
— Душан Темурий, а за что тебя директор заставил копать?
Душан вяло, зевая, рассказал кратко, опустив подробности, и даже такой его рассказ чем–то возбудил Наима.
— Тебе надо было притвориться. Сказать, что этот шар напоминал тебе страусовое яйцо. Ты решил разбить его, чтобы сделать из желтка огромную яичницу на весь класс, — сказал Наим так, будто жалел, что история эта случилась не с ним.
Душан хмыкнул, потом зевнул, уверенный, что Наим опять его разыгрывает.
— Не понимаю… Меня бы послали в другую больницу…
— Что непонятного? Ты как будто только что произошел от обезьяны. Никуда бы тебя не послали, чудакам прощается…
Акраму, который, кажется, только теперь понял весь смысл их разговора, понравился ответ Душана, и он вставил ухмыляясь:
— Конечно, Душан лежал бы сейчас в сумасшедшей больнице…
— Цыц! — крикнул на Акрама Наим. — Слушай, Душан, мне очень нравится, как поступал Насреддин… Принес однажды на мельницу пшеницу и начал перекладывать зерно из чужих мешков к себе. «Что ты делаешь?» — спрашивает его мельник. «А я дурак», — отвечает Насреддин. «Если ты дурак, почему не сыплешь свою пшеницу в чужие мешки?» — «Я обыкновенный дурак, а если бы я делал, как ты говоришь, я был бы дураком набитым», — ответил Насреддин…
Читать дальше
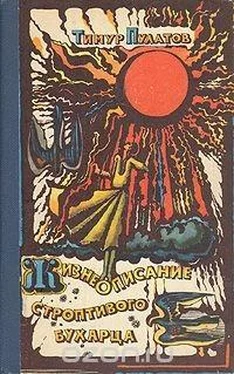





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



