— Ну, ты не прав, Шан, ум — это не обязательно зло и подлость! — Но никто Тестостерона не поддержал — наверное, в ожидании завтрашней встречи с ташлакскими воспитанницами не хотели спорить на отвлеченные темы, а желали лишь говорить и думать о девушках.
Душан и сам ждал, что вот в спальне наступит тишина, все уснут, и под храп и стоны грезивших о чистых и невинных ташлакских девушках он сможет думать свое навязчивое, неотступное теперь — о женщине, которую показал ему случайно в зармитанском переулке Аппак, тогда еще не зная о приезде девушек; они договорились, что завтра же, спрятавшись у ее дома, проследят приход очередного поклонника, теперь же отложили свою авантюру на другой раз.
Это действительно было как навязчивое, ибо вот уже три ночи подряд он вспоминал в мельчайших подробностях, как зашли они с Аппаком в магазин, чтобы купить бриолин для волос, и Аппак, слегка растерянный, сжал руку Душану, показывая взглядом на женщину, болтающую с продавщицей, Душан не понял, и Аппак, толкая его подальше от прилавка, шепнул:
— Это та… помнишь? Я рассказывал, как ночью у ее дома… — И только он это прошептал, как что–то дрогнуло внутри Душана, взволновало, будто могла женщина сейчас посмотреть на него и догадаться о том, что он думал о ней, еще не зная, какая она из себя. Аппак снова пошел к прилавку за бриолином. Душан же остался стоять недалеко от двери, осматривая женщину в красном платье, так подчеркивающем располневшую ее фигуру, ведя торопливым, будто воровским взглядом по ее голым рукам — от плеча до самых пальцев, и проникаясь ощущением каких–то тайн, запретов, чего–то недозволенного и постыдного, что возбуждало воображение, делая его смелым и дерзким. Видя, что продавщица собирается прощаться с собеседницей, Душан незаметно для Аппака вышел из магазина и побежал за угол дома, уверенный, что женщина пройдет мимо него по этой дороге. И, чувствуя, как стынут у него руки от волнения, собирая жар крови на щеках, слышал по стуку туфель, как приближается она, чтобы свернуть к нему за угол.
«Нет, не увидела меня… не заподозрит», — мелькнуло у Душана как спасительное, когда шел он медленно с видом праздношатающегося, слыша ее все ближе, все тревожнее. И в тот миг, когда она поравнялась с ним и шагнула чуть вперед, услышал Душан запах, никогда еще не прочувствованный им, новый и острый, запах ее волос и голых рук. И возникло у Душана вдруг странное, нестерпимое желание коснуться пальцами ее плеча и, успокоившись, убежать. Не в силах сладить со своим желанием, он поднял руку, и только теперь, когда все чувства в нем обострились, увидел на ее плече, на белой коже коричневое родимое пятно. Короткий взгляд, но зато как сжался от него Душан, отрезвленный, пристыженный, невольно остановился, не желая дальше идти, будто одного этого взгляда на родимое пятно на плече женщины было достаточно, чтобы проникся он глубоким ощущением неведомой жизни, будто почувствовал он, каким было ее детство и вся жизнь до сегодняшнего дня, которую Душан измерил своей тоской и горечью. И повеяло от всего ее облика человеческим, тем, что надо преодолеть, осмеять, обхамить, теряя себя нравственно, чтобы отдаться чувственным желаниям с интрижками, подсматриванием, обманом, греховным.
Женщина, должно быть, что–то почувствовала, услышав, как Душан стал. Оглянулась и, встретившись с его спокойным, пронизывающим долгим взглядом, дрогнула, ибо никто еще на нее так не смотрел, и, улыбнувшись Душану усмиряюще, торопливо пошла. А он, довольный тем, что она заметила его и запомнила, побежал назад к Аппаку, который, нервничая, ходил возле магазина и искал Душана. На вопрос, где он был, Душан ответил, вспомнив строчку из песенки, теперь уже, к сожалению, одну строчку:
— Лист на дереве зеленый. Богомол того же цвета…
А потом молчал всю дорогу, помрачнел, как бывало с ним нередко, когда возбуждение спадало и оставалось лишь одно голое обдумывание случившегося. И так через заботы дня, пока ночью, перед сном вдруг опять не вспомнил о женщине, сначала остро, как прорвавшийся сквозь лень и дрему толчок–воспоминание, лихорадочное, «моторное возбуждение», как назвал его сам Душан, когда мысль делается навязчивой, думается об одном и том же пережитом. Он отбрасывал лишнее и собирал все волнующее, начиная вспоминать не с того момента, когда Аппак показал на нее в магазине — в этом он не чувствовал острых ощущений — а с того, как остался один разглядывать ее фигуру, голые до плеч руки и ноги, покрытые внизу до щиколотки белой пылью…
Читать дальше
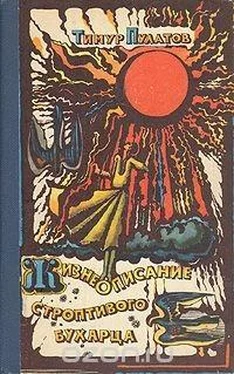





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



