«Что? Закричала бы от неожиданности… если бы тронул ее плечо? — думал Душан. — Рука сама поднялась, как бесчувственная, неуправляемая…. Должно быть, оттого, что все чувство собралось в желание… А где оно, желание? В сердце? Но ведь я ее не люблю… Нет, теперь люблю, но ведь не ее всю, а лишь голые руки. И если смоет она пыль с ног, буду ли любить ее ноги… потому что они будут белые… без загара… И запах полюбил. Что это так пахло в ее волосах… И вся она? Не было в ней запаха уюта, дома… Наверное, от доступности все это выветрилось, и впитала она смесь духов и кремов… «Нежный современный запах…» Вот от нее и полюбил я этот запах… И вдруг это родимое пятно, как запретное, отрезвляющее», — вспоминал Душан, и от назойливого повторения одни и те же ощущения теряли свое чувственно желанное, чтобы остались лишь холодные, точные мысли уже по поводу пережитого, прочувствованного. И он так ждал этого воскресного вечера, чтобы, спрятавшись у ее дома, увидеть женщину другой, новой, чтобы наполниться живыми ощущениями от ее речи и жестов, всего ее облика, а потом долго переживать снова, не делясь ни с кем, скрывая от всех свою ревность к ее поклонникам. Впрочем, ревности–то особой не было, потому что их он еще не видел, а гадать — был ли это аптекарь или Болоталиев, бесполезное занятие. Главное, что и ему досталось от нее — это приятное беспокойство «моторного возбуждения», значит, будь хоть там сто мужчин–поклонников, обаяния ее хватит, чтобы наполнить все его ощущения до остроты, до нетерпения.
Придя в воскресное утро, мать не могла не заметить эту странную возбужденность всегда меланхоличного, бесстрастного на вид сына и суетливый подъем во всем интернате.
— Что это у вас сегодня все какие–то… говорливые? — удивленно поглядывая на Аршака, сидящего со своей матерью, на Ирода, спросила мать.
Душан слегка смутился, как будто уличила она его в недозволенном, и сказал так, будто все это его не касается:
— Ташлакские девушки… их ждут сегодня в гости… Ну, знаешь… обмен визитами. Потом мы как–нибудь к ним поедем… Говорят, Пай–Хамбарову уже тесно в нашем интернате, и он тихо–тихо хочет прибрать к рукам и ташлакский, чтобы объединить и женский и мужской…
— Вот как?! Да, он очень энергичный, грамотный, современный директор, — сказала мать тоже совсем не то, что думала. — Ах, Душан, Душан, как время бежит! Вот к тебе уже девушки приезжают. — Голос ее неожиданно дрогнул, и мать, чтобы скрыть от окружающих слезы, прижалась лицом к плечу сына. Душан взял ее руку и по тому, как дрожало тело матери, понял, что пересиливала она в себе что–то, а он, подойдя к ней, как всегда невнимательный, ничего не заметил. — И знаешь… — Мать быстро подняла голову и глянула на сына уже сухими глазами, оставив пятнами слезы на его плече. — И Амон скоро женится… хорошая… да ты, наверное, ее помнишь — Мавлюда… за полянкой жила…
И хотя Душан не вспомнил, все это его по–доброму взволновало, развеселило — известие о скорой женитьбе брата.
— Как–то не верится, что Амон…. молодец… А жить где будут?
— В той части города… Отец Мавлюды в пятиэтажном доме квартиру им достает, — сказала мать, и Душан, только теперь подумавший: «Мать другая, не такая, как всегда», понял: то, что иногда раздражало его в матери — чрезмерная суетливость и нарочитая, нервная веселость, с которой она появлялась в интернате, — исчезло.
Что–то усталое и трагическое появилось в ее взгляде, словно то, что мешало ей ощущать себя такой, какой она была всегда, спокойной, в чем–то рассудительной и доброй, ушло наконец, освободив искренние чувства. И, увидев ее такой открытой и естественной, Душан вдруг понял все и нечаянно сказал вслух: «Это отец…», чувствуя всю тоску, боль еще не высказанного матерью. Матери послышалось вместо «это отец» что–то другое, хотя и близкое, но не утверждение и понимание, а вопрос и недоумение, словно он спросил: «А отец?»
— Ты спросил, а отец? — сказала мать, открыто и не мигая глядя в глаза Душану; не боясь показаться неправой, неудачливой сыну, который — была мать уверена в этом давно — все почувствовал, пережил и, может, успокоился. — Отец живет с другой женщиной… женой… я четыре года скрывала, Душан, прости. Но ты ведь такой чуткий, все давно знал… В Ташкент с ней уехал, — добавила мать это бытовое сообщение так, как заранее предопределенное еще много лет назад.
Душану почему–то сделалось стыдно, и он опустил голову, словно увидел нечто недостойное, недозволенное, запретное в матери и в отце, и за этим запретным скрывалось столько горя, и неправды, и выгоды, злобы, и это так расстроило ясный ход многих его сокровенных мыслей, что он не мог ничего сказать, кроме этих слов:
Читать дальше
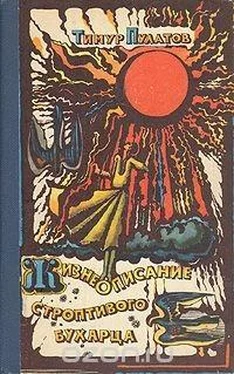





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



