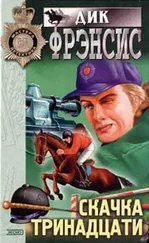Я вздрогнул! Я вспомнил, вздрогнул и, холодея, взглянул на часы. На свои несусветные «роллексы». Было без пяти минут шесть…
— Да успеете, успеете, Тюхин, — поблескивая белыми стеклышками пенсне, сказал читавший мои мысли Р. И. Зоркий. — Еще не вечер, — сказал он, глядя мне в лоб, — да и война, Тюхин, по-настоящему, честно говоря, еще и не началась…
Валил дым. Крупные хлопья гари по-вороньи неуклюже взлетали в небо, мирное такое, безоблачное, каким оно было давным-давно, когда по Суворовскому еще ходили трамваи. Питерское послевоенное небо незапамятно синело над моей головой и в самом зените его, ослепительно сверкая отраженным то ли зоревым, то ли закатным светом, висела самая что ни на есть натуральная, в отличие от того, что творилось вокруг, летающая тарелка.
Грянул «Интернационал»… Впрочем, нет, не так! — тихо и торжественно зазвучал Шопен и я, Тюхин, вдруг подумал: а почему, почему именно Шопен, когда на самом деле, по-польски, он, елки зеленые, — Шопин. Да и не было ни похоронного марша, ни Вивальди, ни даже Вано Мурадели. Тренькало струнами «Яблочко», под возгласы одобрения бил чечетку в кругу одинокий, как мой ваучер, брат близнец Брюкомойников.
Праздник продолжался. Там и сям в волнующейся, как рукотворное море, толпе раздавались возгласы, выстрелы, вскрики. Один не в меру разволновавшийся товарищ рядом со мной, воскликнув «Эх!», раскусил зашитую в воротничке ампулу. У пропилей шла торжественная сдача зениц ока. Принятые под расписку глаза бережно складывались в специальный стеклянный ящик с надписью: «Все для фронта, все для победы!». В обмен выдавались черные окуляры.
— Вот они… м-ме… новые порядочки, — провожая взором очередного счастливчика, прошептал Ричард Иванович. — Тут, Тюхин, годами корячишься, подличаешь, лжешь, предаешь самых… м-ме… лучших, самых преданных своих друзей… А эти — эвона: раз и в дамках!
Ричард Иванович тяжело вздохнул. Щека у него задергалась.
— Хотите, Тюхин, посмеяться? — горько спросил он. — Знаете за кого меня так, в кичмане, приняли?.. Если б за провокатора, хуже… За отца Глеба Якунина…
— Били?
Ричард Иванович молча снял велюровую шляпу. Его стриженная, как у меня под машинку, голова была сплошь в проплешинах. Судя по всему об его голову в камере гасили окурки.
— А бороду они мне по волосочку выщипали, изверги ненавистные, — отвернувшись, прошептал он.
Засвирестели динамики.
— Даю настройку, — голосом Даздрапермы гаркнула трансляция, — раз, два, три… товарища обосри! — и заржала, лимитчица.
— Ну вот. Вот и все, Тюхин. Пора идти против собственной… м-ме… совести. Сейчас, Тюхин, я буду зачитывать свой чудовищный, человеконенавистнический… м-ме… докладец. Еще более мерзкий, чем ваша, с позволения сказать, эпопея… Ага! А вот и Апрель Андреевич догорели, вечная им непамять!..
Я сдернул с головы концлагерную камилавочку.
— Господи, ну а дальше-то что?
— Дальше? Да все то же, голубчик, только — как бы это поточнее выразиться — только в несколько ином, в откорректированном что ли, варианте. Образно говоря: к той же остановочке, но на другом… м-ме… паровозе.
Тут к догорающему пепелищу, пошатываясь, подошел Афедронов. Он расстегнул ширинку и принялся мочиться на огонь. Кий у него был не по комплекции малозначительный, в подозрительных мальчишеских прыщиках…
Или я что-то путаю и это сделал совсем не он, совсем в другое время и не на этом месте?..
Кострище дотлевало. Над площадью Пролетарской Диктатуры мельтешил розоватый, как тутошний снег, пепел. Я снял никчемные очки и вытер скупые слезы обиды тыльной стороной ладони.
А вот глаза, увы, не вынулись. Потрясенный услышанным, я уже совсем было собрался духом выколупнуть их, свои проклятущие, окаянные, но ничего путного и из этой моей затеи не вышло.
И увидел я, собственными глазами увидел я, как выволокли из «поливалки» и под руки повели в фургон бледного, со съехавшим на бок галстуком Ричарда Ивановича. Как оттуда, из цистерны высунулась хохочущая халда Даздраперма. Как она заговорщицки подмигнула мне, мочалка несусветная, и на всю площадь Пролетарской Диктатуры завопила в микрофон:
— К торжественному танцу!.. Побатальонно!.. На одного заклеенного дистанции!..
Глава четырнадцатая. В шесть часов вечера перед войной
Тут в моих и без того обрывочных воспоминаниях — досадный провал, какие случаются разве что с крупного перепоя или когда шарахнешься затылком об мостовую. Опомнился я уже у Смольного собора, уже вне строя танцующих государственную мазурку, весь какой-то безжалостно растерзанный, с распухшими, как говяжьи сардельки губами, без часов. И только-то я пришел в себя, как тотчас же впал в новый транс, потому как творившееся вокруг было выше моего, тюхинского, разумения.
Читать дальше