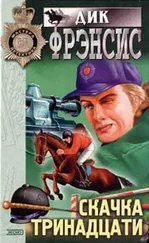— Ну, хорошо, хорошо, — раздумчиво сказал я, — это еще можно понять. А Вавик-то здесь причем?! Любимая, ты спишь?
Идея Марксэновна не откликнулась. Я зашел в светелку. На столе лежала записка для меня: «Ушла в консультацию на Литейный. И. М. Ш.».
Насколько я понял, речь шла о деревянном сарайчике, о дровяном, из горбыля сколоченном, одном из сотен таких же, послевоенных, в промежутке между Смольным собором и левым — стасовским — флигелем монастыря. Глядя в пустой холодильник, я вспомнил Совушкину толевую крышу и нас, малолетних придурков, спрыгивавших на него с третьего этажа. Оттолкнешься, крикнешь: «За Родину, за Сталина!» — и солдатиком с верхотуры! И только ветер свистит в ушах, только Скочина матуха — вдогонку: «Я тебе скучу! Еще разок скочешь — жить не захочешь, выскочка ты этакий!..».
А как Симочка под домом лежал! Алая-алая рубаха на животе, серое, как асфальт, лицо, розовая пена на губах. Он еще подергивался, а мужики в его кепку, там же, за сараями, уже сыпали трешки-пятерки — на помин души, на симочкиных двойняшек. И то, что Тамбовчику теперь хана, это даже мы, пацаны, наперед знали. Дня через три он сам повесился. На чердаке, на стропиле. Господи, как сейчас вижу — страшный такой, с синим, высунувшимся языком, в майке, с русалкой на плече… А на руке у него были часы «Победа». Он висел мертвый, а часы тикали себе и секундная стрелочка вприпрыжку бежала по кругу.
Мои прихваченные в Задверье «роллексы» стояли. Я набрал 08 и все тот же неизбывный Мандула заполошенно откликнулся:
— Шо?.. Хто там?
— Это Тюхин, — сказал я. — Который час?
— Времэни у тоби, Тюхын, у самый обрэз, — сурово ответил начальник Северо-Западного укрепрегиона.
Я повесил Тамбовчика… то есть, прошу прощения, трубку.
Итак, времени на раздумье у меня не было. Как не было уже во рту этой их вечно отсасывавшейся идиотской пластмассовой челюсти — афедроновского шедевра с вмонтированным в зуб мудрости шпионским радиопередатчиком. Сия хреновина каким-то непостижимым образом там, в Лимонии, исчезла, заменившись моими, хоть и паршивенькими, но до боли родными зубами. До сих пор меня, Тюхина, томит тайное подозрение, что протез похитил попугай, когда я, Эмский, ахнув от восторга, выронил его на пол. Там же, в Задверье, я обнаружил, что у меня отросли волосы и ногти. Более того бесследно рассосались рубцы и шрамы, восстановилась обрезанная по наущению Кузявкина крайняя плоть, после чего у меня пропал последний, сугубо формальный повод считаться Витохесом-Герцлом. Счастливое открытие я сделал в фанерном сортирчике за домом. Там же, в сортирчике, смаргивая слезы, я перефразировал своего несостоявшегося сородича — царя Соломона, тоже, кстати сказать, человека небесталанного: «И это прошло!» — прошептал я. И тотчас же за оградой сада раздалось лошадиное ржание, не узнать которое я, Тюхин, не мог…
В общем, когда я выбежал на улицу, на моей крутой фирмй была половина шестого. Второпях заведенные, поставленные по будильнику часики — тикали. «Роллексы» шли, и шли они, как ни странно, в совершенно нормальную сторону, то есть — слева направо, как крестилась Совушкина мама Софья Каземировна, католичка или, скажем, как завинчивался мой кухонный кран, из которого совсем еще недавно, в той жизни, вылезали веселенькие персонажи.
Итак, до свидания с фантастическим Марксэном Трансмарсовичем оставалось двадцать восемь минут.
Непредвиденные препятствия начались тут же, у дома. Улица Салтыкова-Щедрина, по которой я, жутко популярный в будущем фантаст В. Тюхин-Эмский, намеревался сломя голову устремиться к Смольному собору, оказалась перекрытой. Поперек мостовой стояло сразу аж четыре танка без опознавательных знаков, с приплюснутыми башнями набекрень.
— Стой! — воскликнул дусик в шлеме, выпрыгивая из танка, как чертик из табакерки. — Стой, стихи читать буду! — И ведь действительно продолжил стихами, стервец этакий!
— Друг, товарищ и брат! — с чувством начал он, — а ну, кому говорю, назад! Не поворотишь оглобли — убью. Потому как таких вот неповоротливых я больше жизни своей не люблю!
По укоренившейся в душе привычке к литературному наставничеству, я указал неопытному стихотворцу на ряд слабых мест в его, в целом, идейно выдержанном произведении. Замечания мои начинающий поэт-баталист аккуратно записал в бортовой журнал танка и, горячо пообещав мне поразмыслить над ними сразу после победы, к Военно-Таврическому саду меня, Тюхина, тем не менее, не пропустил.
Читать дальше