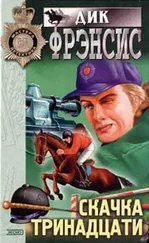Господи, мороз прошел по моей чудом не содранной коже! На том месте, где у нормальных людей были глаза, а у таких, как товарищ майор Бесфамильный, фломастерные нолики — на том самом месте я увидел два незаживших еще, стянутых суровой ниткой шва — этаких, знаете, по-интеллигентски-неумелых, сикось, как говорится, накось, с необрезанными кончиками. И вот он, сучий потрох, протер несусветные свои окуляры, надел их, и обняв меня за плечо, сказал:
— Эх вы, тюха-матюха, Антроп неверующий!.. А ведь как оно там, в Евангелии? Стучите, товарищи, и вам?..
— И вам… откроют, — непослушными губами досказал я.
И он хохотнул козлячьим своим хохотком, торкнул меня локоточком:
— Да откроют, откроют, такой вы сякой, уж будьте уверены! А то ведь как-то не по-людски получается: дамочка ждет, время — идет.
И он, построжав лицом, посмотрел на часы, обыкновенные такие, типа «Электроники». Только цифры на них, как перед ракетным стартом, отстегивались в другую сторону: девять… восемь… семь… шесть… И вот он посмотрел на эти необыкновенные часики и без тени улыбки на лице произнес:
— Вижу, Тюхин, третьим глазом вижу предначертанное! Ви-ижу! — простирая руку, воскликнул он. — Вижу кабинет с моей личиной на стене! Вижу чей-то непомерный, бледный чей-то лоб, а на нем роковые словеса, Тюхин: мене, текел, упарсин… Вы… м-ме… Библию-то читали?
В животе у меня предательски забурчало.
— Читал, — сглотнув слюну, еще раз сознался я. — А причем здесь пир Валтасара?
— А притом, друг мой, — скорбно ответил он, — а притом, голубь вы мой сизокрылый, что приказ о моем аресте подписан как раз… м-ме… сегодня, то бишь 17-го июня 1948 года, причем ровно, — и он снова глянул на часы, — ровно пять минут назад! — вот так он и сказал мне, Ричард Иванович Зоркий, слепец-провиденциалист, боец незримого фронта. — Так что пора, Тюхин! — сказал он и, вставая, хлопнул руками по коленям. — Пора, пора!..
От потрясения у меня выпала вставная челюсть.
— Но за фто, за фто?! — вскричал я.
— Что значит «за фто»?.. Ну, скажем, за потерю сугубо секретных ключей… Да вы, касатик, не переживайте, пустое все это! — успокоил мой слепой друг. — Днем раньше, днем позже, какая… м-ме… разница? Главное, что — финита! А времени, Тюхин, осталось в обрез: только-только собраться — кружка, ложка, зубная щетка, заветный томик… м-ме… Кушнера. Ну и, разумеется, уничтожить компромат: шифры, списки, ваучеры, спекулятивную тушенку…
— О Господи! — простонал я, засунув челюсть на место.
Никогда не забуду этого его электрического вздрога:
— Вы это как — всерьез или к слову?.. Ну про Бога, про Господа? Вы что — верующий?
И уж совсем было открыл я рот, чтобы сказать всю правду, как на духу, но опять, опять, елки зеленые, тот самый, сидящий во мне на стреме, что было сил скомандовал моим же идиотским голосом: «Молча-ать! Та-ти-ти-та!..». И я сам же себе, не раскрывая рта, ответил: «Да молчу, молчу, елки зеленые!..».
Дунул ветер. От церкви пахнуло афедроновским формалинчиком. Невидимый звонарь на колокольне начал неумело вызванивать полузабытую мелодию партийного гимна. И чтобы молчание мое не выглядело совсем уж подозрительно, я сказал, лишь бы что-то сказать:
— Выходит, — сказал я, — выходит, все повторяется, Ричард Иванович? И вожди, и постановления?.. Так это что же, выходит, и… и Отечественная война?.. И Финская?..
— Да вы что, не материалист, что ли? — удивился он.
— И… и… и тридцать седьмой год?! — последнее слово я выкрикнул так громко, что у меня даже голос подвихнулся.
Колокольный перезвон смолк на полузвуке. Шарахнув дверью, на крылечко собора выбежали товарищи в габардиновых плащах.
— Рича… — начал было я, но имя нового друга и наставника так и застряло у меня во рту. Ричарда Ивановича рядом уже не было. Он словно бы улетучился, этот странный Ричард Иванович. Только ирреально-розовая пыль вилась над вечерним асфальтом.
— Ну, это уже булгаковщина какая-то, — прошептал я.
Глава седьмая. Грабеж среди белой ночи
Невеселая мыслишка посетила меня той ночью на Саперном. «Травиться и стреляться уже бессмысленно, — подумал я. — Жить против хода дальше еще глупее, ибо лично мне, Тюхину, эта самая обратная перспектива не сулила ничего утешительного. Ну, в лучшем случае, Колыму. Что делать? подумал я, стоя по иронии судьбы под мемориальной доской Мамина-Сибиряка, автора так и не прочитанного мной романа „Золото“.»
«Что делать, Эмский, неконвертируемый ты мой?» — безрадостно вопрошал я себя, и ответа на этот извечный русский вопрос у меня, Финкельштейна, не было.
Читать дальше