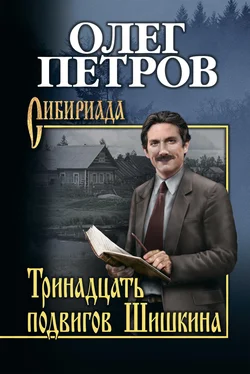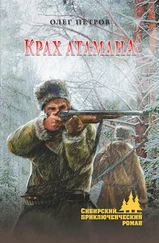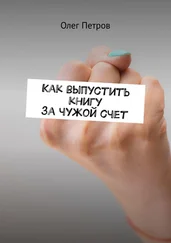«Прибить бы эту Клавочку! – со злостью подумалось. – Сам-то здесь далеко от графоманства ушёл? Вот это, например: «Пари же, пари!» Так и слышится: «В Париже пари!» А последняя строка? «… судьбе поклоняясь». Вообще полная безграмотность! И банальщина в рифмах: счастье-ненастье, птица-страница… Собирался пошлифовать «нетленку», но, в любом случае, не для публики, а тут… Вот же подсуропили «квантиранты». А не надо было «дом свиданий» устраивать! Сам дурак!..» Непроизвольно в голове зарифмовалось:
Восьмое марта выпало на среду.
Допущен был я к званому обеду.
В финале – даже к праздничному торту.
Им от души мне залепили в морду!
Александр хмыкнул и посмотрел на рулончик газет. «На растопку сгодятся!» Ну не в школе же ими трясти. Без меня обтрясутся… Директриса, наверняка, выписывает. И Клавочка, двенадцатипудовый якорь ей… Э-э-эх! Полсела, а может, и больше, «районку» выписывают! И в Кашулане…
Нестерпимо захотелось увидеть Танюшу.
«Пазик» основательно встряхнуло, что заставило Шишкина-младшего метнуться с небес и испуганно подхватить коробку с жалобно брякнувшим фаянсом. Не хватало только чудо-блюдца побить! Он сунул газеты в бездонный внутренний карман куртки.
Поутру с содроганием отправился в школу. И с облегчением удостоверился, что праздничный номер «районки» до чмаровской почты ещё не дошел: никто и словом не обмолвился.
В учительской царила предпраздничная атмосфера. Все учительши поднарядились-причепурились. И весёлая Клавочка порхала по школе, не замечая расстрельных взглядов Шишкина. «Ладно, – решил он, – накануне Женского праздника поступим благородно: отложим убийство Клавочки на девятое марта». Не её пожалел – Ромео Ашуркова.
Незамысловатая фаянсовая безделушка школьными женщинами была воспринята с таким восторгом, что это стало триумфом завхоза Терентьича. Особенно после того, как Александр ненавязчиво проинформировал довольных дам, чья была идея. Терентьич ходил по школе гоголем, предварительно экспроприировав у Шишкина-младшего ведро с багульником. Самолично вручил всему прекрасному полу, включая бабу Дусю и бабу Женю, по веточке. Оказалось, что Терентьич умеет улыбаться!
Вечером, на какой-то попутке прикатила Танюшка! Шишкин и надеяться на такое счастье не смел! Планировал позвонить ей с утра, поздравить. Кольнула совесть: позвонить!.. Мог бы и съездить. Кавалер хренов! А вот Танюшка… Впрочем, что и говорить, жестоко матушка-природа или Создатель обошлись с мужиками: совесть и инстинкт дали, как две одинаковые охапки сена, – мечется мужик между ними, выбирает… В итоге – ни по совести, ни инстинктом движимый. Лежит себе, полёживает. А женщина – действует! «Никого ты, Шишкин, кроме себя, не любишь! – отвесил ему подзатыльник внутренний голос. – А вот Татьяна тебя любит! Приехала, чтобы к тебе, уроду моральному, прижаться. Позвонить он собрался! Не сумей она приехать – весь день бы твоего появления ждала! Хотя… Не ждала бы. Ты же бы ей утром позвонил! Только от такого внимания плакать хочется. Э-э-эх! Шишкин, Шишкин…»
Но сейчас на всё это Шишкину было наплевать. Танюшка здесь, и они целый день вместе! И ещё ночь!
Вручил подарок – коробку духов. Настоящих французских. Последний раз, когда был в городе, добыл через маман. Наврал, что директрисе собрался приподнесть по случаю праздника. Маман, естественно, отнеслась с пониманием.
Танюшка подарку обрадовалась, но когда Александр не удержался и показал ей газету со стихами… О-о-о! Тут же про духи забыла!
Она жадно перечитывала шишкинские вирши и смотрела на своего избранника такими восторженными глазами, что он решил простить Клавочку и после праздника её не убивать. И даже, взяв гитару, пропел Танюшке – она следила по газетному листу – опубликованную среди прочих опусов балладу «Ветер и путник».
Вообще-то это была композиция группы «Uriah Heep», с её второго альбома «Salisbury», и называлась она «Женщина в чёрном», но в своё время, когда Шишкин-младший поигрывал в студенческом ВИА, текст ему показался скучным и примитивным. На английском можно было, конечно, и оригинальный пролаять, но хотелось на публику (девичью!) впечатление произвесть. Да и не гневить суровую и величественную Валентину Ивановну Пугачёву, профессора кафедры истории КПСС, а главное, парторга историко-филологического факультета, которую все за глаза называли Екатериной Второй. Среди студенческой братии вообще царило убеждение: схватись в монаршьи времена императрица Катька Вторая не с пострадавшим от неё бунтарём-однофамильцем Валентины Ивановны, а с нею самой, – ещё неизвестно, чья бы взяла. Но при любом исходе бунтарю Емельке бы не поздоровилось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу