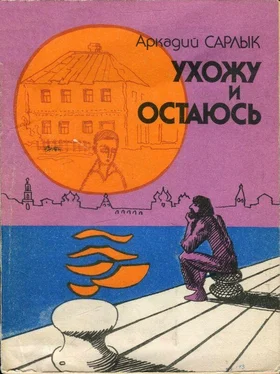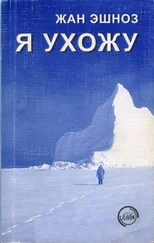— Где, где? Да по радио, где же еще?
— Когда слышала?
— Не помню когда. А может, вчера?
— Да я его только что… вот сейчас, без тебя…
— А вот и врешь. Сам же говоришь: «Сегодня Первое мая», а сегодня второе. — Что ни говорите, мощный довод. Я потерялся.
— Так это же я так сочинил…
— Может, и сочинил, да не ты. Совсем заврался, бесстыжая рожа!
— Да я это, я! — упорствовал автор, сдерживая рыдания.
Бабушка вынуждена была пойти на крайность:
— Ах ты, бессовестный! Сиди на кухне, пока не признаешься.
С полчаса я сидел на кухне в невозможном одиночестве, слизывая соль с губ и щек и нахально шелуша черную штукатурку. Когда она вошла, я топнул на нее ногой, взвизгнул:
— Все равно это я! — и разревелся в голос.
Война по поводу четверостишия длилась с месяц. Я проявил упорство Галилея и даже большее, не уступив угрозам и не поддавшись на обещание купить мне черешни и пастилы.
Пришлось нам обоим забыть о моем дебюте, и я вспомнил о нем только сейчас, когда моего первого критика уже не стало…
Бабушка любила все добротное, и нас в ее старом доме окружали только вещи, отмеченные знаком этого качества. Такими были старинные часы с цилиндрическими медными гирями, ни разу не остановившиеся на бабушкиной памяти, да и на памяти Папаши (моего прадеда) тоже. Они мерно шли — именно шли, а не тикали — вот уже более века, отставая минут на пять за месяц. Да и куда им было спешить? Ведь по расчетам хозяйки им надлежало дойти аж до второго пришествия, которого бабушка ждала где-то на рубеже тысячелетий. Такими были священные книги в черных жестких переплетах, покрытых патиной плесени, с огромными медными застежками, отстегнуть которые было невозможно, не почувствовав, что снимаешь засовы с дверей тяжелого ветхого мира с безапелляционными законами и жестокостью всезнания. Из них бабушка и узнавала о сроках конца света. Правда, они предусматривали, насколько я понял, скользящий график, и близость даты зависела от решительности толкователя. А она могла возрастать под действием внешних причин, например, недоверия слушателя. Такое случалось, когда к нам приходила тетя Шура, бабушкина двоюродная сестра — миниатюрная старушка с кукольным румяным лицом.
Попив чаю, мы рассаживались по местам: они за могучим дубовым столом супротив одна другой, обложившись фолиантами и воинственно поблескивая друг на друга очками в одинаковых оловянных оправах с резинками, а я на громадном дубовом сундуке с плоской крышкой, некованом, служившем мне по ночам одром. Я важничал не меньше, чем они, понимая свою роль в этом представлении: без меня оно теряло бы смысл (я был маленьким зрительным залом).
Начинала тетя Шура, мнившая себя, и не без основания, знатоком писания:
— Вот я и говорю: недолго нам маяться осталось.
Имелось в виду всем нам, включая и меня. Бабушка, может быть, чувствуя некоторую вину и долг передо мной, а может быть, из строптивости характера возражала:
— Ну чего уж недолго. Вот же сказано: в конце второго тысячелетия. Значит, и мы с тобой, слава богу, сами помрем, и они вот (жест в мою сторону) поживут еще.
— И-и, матушка, — начинала заводиться гостья, — поживут, как же. Чай, конец тысячелетия считается сто лет! В любую минуту нагрянет и спрашивать не будет.
— Это, конечно, — не желала открыто перечить бабушка. — Но и сама посуди: в четырнадцатом тоже ждали, ан обошлось. А в семнадцатом-то, и до двадцатого: ни власти, ни порядка, и голод-то тебе и мор. Ведь все по писанию было: брат пошел на брата, сын на отца. С семи городов люди сходились в один град, а земля не рожала злака… Да вспомни, чай, как отец Мефодий стращал: скоро, говорит, теперь скоро, совсем скоро…
— И было бы, — загремела маленькая тетя Шура, — все было бы. Да ведь не все были такие, как ты, — вертихвостки. Ведь я за день тыщи поклонов клала… На Светлояр-то ходили, и постились — теперь так не могут, себя жалеют, истошшаются, вишь. А Собор-то сколько раз собирался! От нашего прихода тоже в Лавру ходили. Глафира-то еще с ними, не помнишь, чай?
— Помню, помню, — засуетилась бабушка и, кажется, слукавила.
Но тетя Шура продолжала обличать по крупному счету:
— Ну коли помнишь, так и скажи, сколь грибов-то уродилось тогда, а? Жуть! А какие закаты были?! Чистая кровь по небу. Спаситель-то наш крови не жалел, предупреждал нас! Но уж и мы молились, как дай бог теперь кому… Уж так истово, с таким страхом.
Она поутихла, вспомнив страх, мы благоговейно молчали. Потом встрепенулась, сообразив, что не рассчиталась с нами полностью.
Читать дальше