Злость не надо скрести по сусекам, она всегда рядом, наготове. Только возьми и запусти, как волчок: запустишь — долго не остановится. Волчок крутился все быстрее, возвращая в эту палату, в это утро прежнего Омена. Мелькали лица одноклассников и их матерей, все тщательно не замечаемые и пристально рассмотренные истории послушания и непослушания, строгости и попустительства, контроля и доверия, составлявшие одну историю любви, в которой ему — накормленному, умытому, одетому не хуже других, не нелюбимому, озлобленному Омену — не было места. Чем выше оказывался постамент, тем отчетливее он видел всеобщую виновность и свою правоту — и тем более был несчастен.
В прежней больнице он слышал разные истории о побегах от детдомовских. Все они заканчивались возвращениями: раньше или позже, по своей воле или после облавы. Дети сбегали в одиночку и компанией, планировали побег заранее и просто пользовались случаем: отсутствием у входа охранника, переводом из корпуса в корпус, открытым по недосмотру окном.
Сбегали, хотя бежать было некуда. Потому и недалеко, потому и бестолково. У него есть цель, и он так просто не сдастся.
Утро тоже стало раскручиваться за волчком — уже дребезжала в коридоре каталка, шаркнули и хлопнули двери: одни, другие. Омен глянул на Суицидничка: тот, почувствовав на себе взгляд, посмотрел виновато, но твердо, и отрицательно покачал головой.
Что ж… Он им всем покажет. Судья снова открыл глаза и решительно, неотвратимо спустил ноги с кровати, готовый поставить последнюю точку в истории возмездия и кары. Судья, конечно, как всегда, закончит тем, что пустит себе пулю в висок, но учил же Христофоров — и правильно — отделять выдуманное Я от себя настоящего. Судья останется в закольцованной цепочке книжных реинкарнаций, а мальчик устремится вперед по дороге, расстилающейся прямо за больничным окном.
Омен скользнул рукой по дну кровати, где, как заветный золотой ключик, хранилась гладкая пластиковая ручка, которая откроет ему окно в мир, и мир вынужден будет подчиниться его правилам — за то, что однажды подчинил себе.
Рука привычно погладила бугристые наросты высохших «жевок» и провалилась в кратер. Омен не поверил руке и ощупал кратер еще раз. Слепленное из десятков застывших резинок гнездо оказалось пусто. Оконной ручки в нем не было.
* * *
Музыка из зала доносилась до третьего этажа. Христофоров представил, как отец Варсонофий, раз в год сменявший рясу на подбитый ватой красный халат Деда Мороза, мечется по залу в поисках мешка с подарками, украденного злыми гномами — медсестрами женского отделения. Гномов они играли каждый год, и с каждым разом все лучше и лучше.
Небольшая стопка историй болезни была придвинута к стене, карточки выписанных отправлены в архив — одни навсегда, другие совсем ненадолго.
История болезни Омена лежала открытой на столе, сам Омен сидел напротив.
— Ты мне не нравишься, — сказал ему Христофоров.
Омен не шелохнулся, вежливо изучая стену за спиной Христофорова, словно тот был прозрачный.
— Однако в Новый год принято дарить подарки. Пересаживайся.
Он встал из-за стола, уступая место.
— Что такое телемост, знаешь?
Омен мотнул головой.
— Это когда люди на одном конце света с помощью телекамер общаются с людьми на другом конце. У нас с тобой все проще: и страна одна, и есть скайп — компьютерный телефон с видеокамерой. Начинаем сеанс видеосвязи. Прием, прием…
Компьютер закрякал отрывистыми гудками. Омен поморщился. Христофоров явно хотел над ним подшутить.
На экран вплыла лысая, размером с изрядный чайник, голова какого-то мужика.
— Прием, прием, алло, — загудела голова.
— Москва на связи, — торжественно возвестил Христофоров, будто посылавший сигнал в космос.
«На связи», — как эхо повторил про себя Омен, еще не понимавший, в чем дело, но зачарованный подготовкой к неизвестному. Он подался вперед: ведь если Христофоров позвал, голова скажет что-то, лишь ему адресованное.
Однако лысая голова исчезла, а ее место заняла другая — в белом платке. Эта голова вглядывалась, не мигая, словно хотела что-то прочитать по ту сторону экрана. Вернее, по эту, где сидел Омен.
Он даже не сразу понял, что голова — женская. Когда понял, зажмурился от догадки и на всякий случай уточнил:
— Мама?
— Мамка, — поправила голова знакомым голосом. — Мне сказали, что ты меня ищешь, а я уж думала, давно вы меня забыли.
Омен помотал головой и закусил губу. Он не помнил, когда плакал в последний раз и плакал ли вообще, а тут — в глазах защипало.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


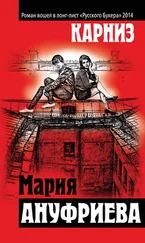





![Мария Гудаваж - Доктор Пес [Как наши лучшие друзья становятся нашими врачами] [litres]](/books/388896/mariya-gudavazh-doktor-pes-kak-nashi-luchshie-druzya-s-thumb.webp)



