Еще полгода спустя шоферы продолжали толковать о том, какое счастье привалило одному из их собратьев, повезшему доктора Гуфа, его сестру и Ханну в Оксенфурт. Вот уж повезло так повезло, другого такого случая не дождешься, пока из Вюрцбурга в Оксенфурт каждый час отходит местный поезд.
В вагоне четвертого класса на скамье вдоль стены — поперечных скамей здесь не было — сидели Оскар и квартет, и каждый держал перед собой новую плоскую картонку с фраком. Картонки стояли стоймя у самых их колен, сплошной коричневой стенкой.
Дребезжащая мелодия старого поезда, вот уже полвека верою и правдою служившего людям на этом перегоне, приобретала в открытом поле еще и оттенок самодовольного превосходства. Квартет сидел, чопорно вытянувшись, и молча разглядывал публику, перед которой предстояло ему выступить в воскресенье вечером: оксенфуртских крестьянок, возивших в Вюрцбург на базар фрукты и овощи и теперь возвращавшихся домой с огромными пустыми корзинами.
Обветренные лица, сине-сизые от долгих часов, проведенных на холоде за базарными стойками, походили на лежалые яблоки. Каждое яблоко было повязано платком. Смеркалось, предметы и люди в вагоне теряли очертания.
Письмоводитель, глядя прямо перед собой, прошептал:
— Зря мы держим картонки стоймя, фраки съедут вниз и, пока доедем, совсем сомнутся.
Соколиный Глаз передал его слова по цепочке.
— Значит, то есть положить?
Письмоводитель неприметно кивнул.
Четыре пары рук одновременно захватили по картонке и повалили коричневую стену. После чего все снова застыли, серьезные и молчаливые, чопорно вытянувшись и слегка покачиваясь всем корпусом.
И железнодорожное полотно, и поезд, и шоссе с мчащимся по нему автомобилем (для сидевшего за баранкой шофера эта поездка останется венцом и украшением всей жизни), бежали бок о бок вдоль реки, выписывая зигзаги по долине, среди холмов с виноградниками и мимо уже дышавших вечерним покоем деревушек, обнесенных остатками средневековых крепостных стен.
Сестра Гуфа еще утром зашла к фрау Люкс и попросила ее на один день отпустить с ней дочку. Она ни на минуту не отходила от Ханны и только на время представления оставила ее наедине с братом.
Низкий зал как будто уходил в небо, ибо свет от большого шара из матового стекла, похожий на окутанный дымкой месяц, еле-еле пробивался сквозь толщу табачных облаков, плававших над головами зрителей.
От входной двери, где толстый актер в костюме Гамлета торговал билетами, и до самой рампы шли сплошные ряды столов и уже занятых скамеек. В боковых проходах толпились ребятишки. Официантки разносили пиво. И все же мимо кассы, подталкиваемые стоящими сзади, медленно двигались любопытные зрители. Еще не было восьми.
— Видали, какой сбор! А что если и нам поднять завтра цену на билеты? Брать за вход не тридцать, а, скажем, шестьдесят пфеннигов.
— Попробуй подыми! — съязвил письмоводитель.
— Значит, то есть а почему бы нам не брать, как они, по семидесяти!
Теобальд Клеттерер не сводил глаз с толстого Гамлета. Вручая билет какой-нибудь дородной деревенской красотке, тот все норовил ущипнуть ее за локоть. Тогда она покупала и программу.
Доктор Гуф, войдя с Ханной и увидев его уловки, поднял руку:
— Стой, брат Гамлет! Сдается мне, что у тебя румянец сильной воли не слишком блекнет от размышлений.
— Все может быть. Однако, сударь, тогда бы мы вовсе прогорели. Слабел бы иначе живой полет отважных предприятий.
— Браво, Гамлет! Браво!
Гамлет до последней минуты сидел у входа. И только после второго звонка исчез, унося под мышкой зеленую проволочную кассу.
Подобно тому как даже самые искушенные посетители премьер немеют перед таинством, когда в зале гаснет свет, а в кукольном театре округляются глазенки ребятишек, лишь только перестает играть шарманка, так и крестьяне поддались чарам искусства, едва лишь поднялся занавес. Шум внезапно умолк, голоса актеров достигали самых дальних уголков зала, и слова вбирались притихшей публикой не менее жадно, чем впитывает в себя влагу промокательная бумага.
Играла молодежь, еще исполненная надежд на будущую славу, играла за кусок хлеба и ради того, чтобы когда-нибудь эту славу пожать, а с ними несколько стариков, живших воспоминаниями о прошлых, никогда не пережитых ими, триумфах. Толстый актер, исполнявший роль Гамлета и кассира, занимал промежуточное положение между теми и другими, он был всегда всем доволен, а сестра — гонимый ветром листок, прибившийся к труппе, — довольствовалась тем, что изображает жизнь, жить которой не способна.
Читать дальше
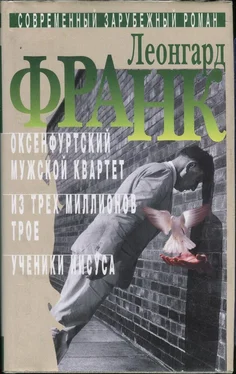



![Леонгард Франк - Пьесы [Авторский сборник]](/books/424345/leongard-frank-pesy-avtorskij-sbornik-thumb.webp)




