Павлович же, казалось, был спокоен, вниз не глядел, а все рассматривал медсестру.
Глухие очереди отбойного молотка оборвались. Лопались всплывающие пузырьки.
— Ну что он тянет? — крикнул Павлович.
Ипполитов взмахнул своими длинными руками, сбрасывая простыню и ватник, скинул один сапог, но в это время снова раздалась очередь.
Медсестра подняла с пола простыню и опять укутала Ипполитова. Он стоял на одной ноге, поджав другую, и сосредоточенно следил за движениями воды.
— Ой, ну что вы! — засмеялась девушка. — Как не стыдно?
Морозов обернулся — Павлович одной рукой обнял медсестру и привлек к себе.
Она не вырвалась, а, наоборот, даже улыбнулась с лукавством и полудетским, полуженским кокетством. Ее улыбка разрушала первое впечатление чистоты, которое оставляла медсестра, но тотчас же рождала совсем иной интерес.
— Внимание! — скомандовал Морозов.
Павлович отпустил медсестру.
— Какой вы невоспитанный, — сказала она.
Он поднял с пола ватник и перегнулся через борт, словно не было ни окрика Константина, ни медсестры.
Уставший, задыхающийся Бут вылез из колодца и стоял, закрыв глаза, пока его переодевали. Серые струйки стекали с его слипшихся волос и катились по лицу.
— Все хорошо, — с восторгом и содроганием сказал он. — Передохнуть бы…
Ипполитов собрался и нырнул.
После него пошел Павлович.
— Там все в порядке, — вернувшись, сказал он. — Все хорошо, можно наживлять болты.
Но было хорошо не потому, что работа заканчивалась, дело было не в болтах, а в том, что ему улыбались Морозов, Ипполитов, Бут, медсестра и проходчики. И еще потому, что они были рады видеть его, и сверху падал серенький свет, и пахло сыростью и железом, и полотенце докрасна растирало грудь…
Они еще много раз уходили под воду. Отшвыривала от фланца бьющая из скважины струя, болели руки, ускользали гайки, — но это тоже было хорошо.
Морозов спросил: «Было страшно?», и они признались: да, было. Только один Павлович сказал: «Не было». И они поверили ему.
— Этот день как рождение ребенка, — добавил Ипполитов.
Пока они вот так беседовали, проходчики светили лампами на воду.
— Кажись, тихо, — сказал один.
— Уровень не повышается, — недоверчиво вымолвил другой.
Подводникам тоже захотелось посмотреть вниз. Они наклонились над бортом и молча, с надеждой, в полной тишине следили за медленным плаванием какой-то белой щепки в спокойном колодце. Притока воды больше не было.
— Ну что, мужики? — воскликнул Павлович. — Стоит жить, а?!
В ответ проходчики дали сигнал подъема. Бадья вздрогнула, на мгновение кинулась вниз и рывком ушла вверх.
Все кончилось. Работа, риск, случайная попытка возродить клуб — все кончилось. Можно было ремонтировать «Запорожец» и ехать к Вере. Морозов предполагал, что Кулешов уже наладил обед и, не исключено, — оркестр. Константину не хотелось сразу уезжать. Что-то саднило в груди.
На земле, когда они поднялись, серые утренние тучи давно были развеяны ветром, небо стало таким чистым и величественным, как над морем. Ветер не утих. Сдергивало с разъезженной дороги белесую пыль.
Соскучившийся Дятлов кинулся обнимать Морозова, Павловича, Ипполитова и Бута. Он спрашивал, просительно улыбался, кивал головой и не слушал, как ни странно, совсем не слушал, а лишь переводил взгляд с одного лица на другое. У него в руках был расчехленный фотоаппарат, и Павлович сказал:
— Не упускай момент!
Четверо стали в шеренгу, положили перед собой на землю акваланг и, скинув свои шахтерские каски, о чем просил Дятлов, подняли их вверх, улыбаясь хорошими открытыми улыбками. Фотоаппарат щелкнул.
По дороге широким шагом шел Кулешов, а за ним — человек двадцать или двадцать пять управленческого персонала. Кулешов был нацелен своим быстрым размеренным шагом пройти далекий путь. Свита не обгоняла его, а ликующим клином неслась за ним.
Из-за здания вытекла черно-золотая лавина. В ней гремели литавры, били барабаны, пели фанфары, кларнеты, трубы и четыре геликона. Впереди лавины, тоже в черном, с золотым тамбурином, маршировал сухонький седой старичок. Он размахивал своей золоченой палкой с кистями, и глаза его прижмуривались после удара литавр.
Снова щелкнул фотоаппарат, оставив на пленке маленький кадр: четыре улыбающихся человека, белая деревянная дверь, кусок шифера на крыше, эстакада копра, небо.
Этот щелк затвора, счастливое и надутое гордостью лицо Дятлова заслонили черно-золотую громкую лавину, стремительного Кулешова и ликующих управленцев.
Читать дальше


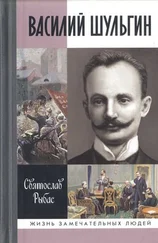

![Святослав Рыбас - Зеркало для героя [сборник]](/books/414715/svyatoslav-rybas-zerkalo-dlya-geroya-sbornik-thumb.webp)