— Ты у него был?! — сказал Ткаченко. — Тебе мало его двух инфарктов?
Кердода промолчал. Он действительно ходил в больницу — на террасе одетый в линялый синий грубый халат Бессмертенко сидел в парусиновом шезлонге, глаза были закрыты, голова завалилась к плечу, лицо было желтое и заросшее седой щетиной; Кердода поднял руку, чтобы разбудить, и пожалел, не разбудил, надо было когда-то раньше, не здесь…
— Что тебе он сделал? — спросил Ткаченко.
— Кто? — уточнил Кердода.
— Оба. Бессмертенко и Лебеденко.
— Господи, — улыбнулся Кердода, — тебе-то не все равно?
Щелкнул замок, кто-то пришел, и разговор оборвался, застав Ткаченко на полпути между неизвестностью и догадкой.
В прихожей гудел голос Лебеденко, распределяя старые тапки.
— Мне не все равно, — сказал Ткаченко. — Как раз мне-то и не все равно.
Через минуту кухня была полна народу, стало тесно, шумно и весело, как всегда бывает в мужской компании; полированных красных табуреток не хватило, принесли мягкие стулья, раздвинули стол, поставили на середину миску с салатом и сковородку с яичницей; Ткаченко разлил по тарелкам суп, откупорили водку, подняли стаканчики и в ожидании взглянули на хозяина.
— Ну поехали! — сказал Лебеденко и выпил двумя глотками, пролив на рубаху несколько капель.
Наверное, от него ждали других слов, поэтому получилась заминка.
— За нашу бригаду, — сказал Ткаченко и, как бы извиняясь за тупость своего тоста, добавил: — Теперь — за вашу бригаду.
Но смысл поправки был утерян под нежный звон стаканчиков и крепкое перхание нескольких обожженных глоток. Закусывали, ели со здоровым, могучим аппетитом; двигались над столом руки с черными буграми ногтей, блестели зубы и глазные белки, вздувались красноватые повлажневшие скулы, а Ткаченко сидел с этими людьми последний раз, и было хорошо, что никто не собрался сказать об этом. Последний раз он был на равных, после смены, перед футбольной игрой. Крепкие загорелые парни бегут по зеленому полю земли, — такая яркая картина прошла в его сознании, и он впервые подумал, что любил стадион в часы матча, любил, как будто на девяносто минут игры переставал быть усталым подземным рабочим, а жил той свободной радостной жизнью, для которой он был, наверное, создан. И еще любил потому, что ходил вместе с этими людьми, потому что безумие победы, поднимающее на ноги в один миг сорок пять тысяч, рождало чувство мужского братства. В те дни, когда должен был играться футбольный матч, Ткаченко, рубя грудь пласта, всегда мысленно определял местоположение стадиона, и зеленое поле земли как будто приближалось к нему.
Он подумал, что теперь он не будет ходить на стадион. Без товарищей ему там будет уже не хорошо, как не может быть человеку хорошо, когда он становится один.
«Нет, — сказал он себе. — Что за чушь! Я буду к ним приходить. Хотя бы раз в месяц. Можно позвонить, договориться, встретиться…»
Ткаченко представил, как он приходит на шахту — и, конечно, все обрадуются; ему захотелось подтвердить их будущую радость примером, он вспомнил своего тезку, слесаря Фастикова, которому лебедочным канатом отсекло три пальца на правой руке, и вспомнил, как тот вначале появлялся в нарядной участка, рассказывал о своей новой работе (он устроился в ЖЭК), но потом стал чужим и приходил только в бухгалтерию за пенсией, хотя никто с ним не ссорился, — он просто уже не был связан с шахтой, а жалости ему не нужно было.
Да, признался Ткаченко, зачем себе врать? Последний раз, как ни хитри, есть последний раз. И надо к этому привыкнуть, надо попять, что если когда-то был первый шаг, то наступит последний, и надо тогда уходить просто, никому не причиняя хлопот.
Ничего лучше нельзя было придумать, думал Ткаченко, уйти без хлопот.
— Наливай по второй, — сказал Лебеденко.
Хрыков сорвал фольгу с горлышка бутылки.
Ткаченко разломил хлеб и, поддев вилкой глазок остывшей яичницы, положил его на хлеб. Суп был съеден. От салата остались белые ребрышки лука на дне тарелки. Закуска кончилась так же быстро, как и в минуты подземных завтраков, когда, сколько бы ни было в «тормозках» колбасы, котлет, вареных яиц и хлеба, все это сразу исчезало; уписывалось и трескалось, как в домне сгорало, и порой казалось, что не хватает самой малости, чтобы обычная еда превратилась во что-то другое, в акт преломления своего хлеба с другом. Серьезность подземных завтраков смутно ощущалась всеми.
А сейчас нараставшее желание праздника наталкивалось на угрюмую сосредоточенность хозяина и исходило в небольшие разговоры, в баечки Кердоды, как будто искало, кто из людей его выразит первым.
Читать дальше


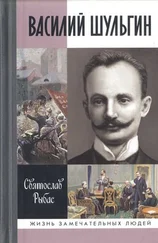

![Святослав Рыбас - Зеркало для героя [сборник]](/books/414715/svyatoslav-rybas-zerkalo-dlya-geroya-sbornik-thumb.webp)