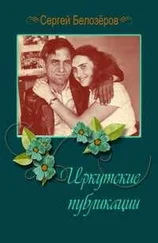— Чего они там делают? Там же мины? — удивился Калинин.
Боец только пожал плечами, мол, дуракам закон не писан.
Фронта как такового ещё не было, и в затишье такие группы, как наша, ходили к бандеровцам в гости, они же ходили к нам. А здесь была даже целая операция со смыслом: встать в засаду и ждать. Всё это мне в двух словах объяснил Калинин, чтобы я понял обстановку и правильно написал в своих заметках.
Я подумал, что для такого дела группа слишком мала и слишком легко вооружена, всего три пулемёта, правда, гранатомётов было побольше, но гранатомёт — штука разовая; я бы взял АГС и побольше «улиток» к нему, но это, что говорится, не моё собачье, то бишь не корреспондентское дело, и я промолчал.
С нами шла девушка-снайпер. Имени я её не знал, только позывной: Шурей. Я спросил, почему позывной такой странный. И меня просветили: во-первых, позывной и женский, и мужской одновременно, чтобы запутать укрофашистов, а во-вторых, в позывном присутствует буква «р», классический и обязательный элемент позывного, потому что в бою из-за шума и помех в рации, звук «р» хорошо слышен, не надо трижды переспрашивать. Гладя на Шурей, я вспомнил нашу Анюту, позывной Лето, снайпершу из Авдеевки, и что сделали с ней укрофашисты в Дмитриевке. После этого я плевать хотел на приказы и никого в плен не брал; пусть докажут, что я действовал преднамеренно, а не в горячке боя. «Бог обещал нам всё простить сполна, когда закончится война».
И только погодя я понял, что имел ввиду Валентин Репин, когда сказал, что у меня лицо звереет, когда я говорю об этом. С таким лицом жить нельзя. Это ненормально и неестественно — переживать каждый день заново, вспоминать то, что тебе тошно вспоминать; мне до сих пор снятся сны, в которых я так и не отомстил за Лето, и каждый раз я просыпаюсь от собственного крика и с облегчением пялюсь в потолок оттого, что я не в окопе и не в лапах у бандеровской сволочи. А она там погибла.
Дальше мы пошли цепочкой вдоль балки. Под ногами шуршали дубовые листья, и мне казалось, что нас слышно за версту и что это против всех правил маскировки. Но Калинина ничего не волновало, он только сказал, чтобы я не высовывался и не сходил с тропы, иначе можно подорваться на растяжке. В этом и заключался весь инструктаж. Я шёл последним и снимал спины. Боец с позывным Филин впереди нёс гранатомёт РПГ-7 и выстрелы к нему, между прочим, без всякого бронника.
Филин был из Санкт-Петербурга. Он сразу заявил, что живёт в коммуналке и в гости никого принять не может; гитарист и поэт, он скрашивал тоскливые вечера бренчанием на гитаре. Я почему-то удивился, что он не взял её с собой. В мае четырнадцатого он был одним из тех, кто перекрывал Володарское шоссе, чтобы не допустить укрофашистов в Мариуполь. В отличие от большинства местных повстанцев, ему удалось уйти в Донецк, а его друзья-мариупольцы попали в лапы СБУ и были освобождены только после заключения минских соглашений.
* * *
Её нашли в июне. Сразу, как только отбили тот район. Я мотался в между Красным лиманом и Ямполем, где наши велись тяжелые, оборонительные бой с укрофашистами, и не мог поехать с ними на дачу.
Собственно, как мне объяснил Борис Сапожков, в районе Старомихайловки был даже не бой, а короткий наскок, ночью, а утром их выбили, потому что это была городская окраина. Летние ночи на Украине светлые, короткие; и они успели напортачить.
Борис Сапожков дёрнул меня прямо с репортажа, наорал в ответ на моё запирательство, и я в недоумении поехал на санитарном БТРе в Донецк, гадая, что такого могло было произойти, чтобы Борис Сапожков повысил голос. Со мной ехали раненые, и я весь путь то подавал воды, то придерживал кому-то ногу или голову, когда дорога была особенно тряской.
Утром следующего дня, уставший и голодный, я поднялся на седьмой этаж и вошёл к нему в кабинет.
Он посмотрел на меня, лупая глазами, как филин из своего дупла, обвешенного дипломами и грамотами за передовую работу по части литературно-публицистической деятельности, молча налил стакан коньяка, пододвинул ко мне. Я всё понял, у меня одеревенели ноги.
— Надо поехать и опознать. Возможно, это не она. Мина… — обманул он меня, чтобы приготовить худшему. А может, сам не знал подробностей?
Я выпил. Стало ещё хуже. Мы поехали. Голова была пустой, чувств — никаких, кроме подвешенного состояния. Варя, о которой Борис Сапожков ничего не сказал, отошла на задний план, и это вселяло слабую надежду. Уточнить я боялся.
Читать дальше