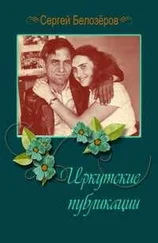Итак, осенью тринадцатого года Гелий Уралов разбился на трассе «Дон», выехав на встречную полосу. Я быстренько посчитал: три года без мужчины — это по молодости лет очень много, так много, что кажется половина жизни прошла, причём всегда и неизменно — лучшая, по которой надо только и делать, что слёзы лить. Я не знал, были ли у неё любовники после смерти мужа, мне хотелось думать, нет, не было, слишком бурно и искренно развивались у нас отношения; и я не почувствовал фальши или подвоха, потому что и то, и другое было делом всего лишь статистики, которая мне до смерти надоела, но почувствовать, я почувствовал бы.
А что касается Гелия Уралова, то в свете того, что я узнал ранее, я хорошо мог представил себе причины, побудившие его выехать навстречку. Я даже мог разложить эти причины по полочкам и разобрать каждую по деталькам; поэтому не предполагал, что там какая-то сногсшибательная тайна, способная изменить моё мировоззрение и потрясти до основания души. Ревность — по молодости страшная штука, чаще — слепая и глупая, хотя и не без рыцарского благородства.
Мы сидели напротив друг друга, на холодных, как мрамор, кожаных диванах, в огромной, холодной гостиной, с высоким, концертным потолком, больше похожей на операционную, полную мрачных ощущений и дурных предчувствий. Аллу Потёмкину знобило, и она куталась в плед.
— В молодости я вообразила, что весь мир принадлежит мне, — сказала она, — только мне. Я делала, что хотела, не очень заботясь о последствиях. Я курила марихуану, пробовала экстези и даже нюхала клей! Я делала очень много странных вещей, о которых мне стыдно теперь вспоминать! Но мне не терпелось! — высказалась она, как на электрическом стуле, — и я напортачила! Я сильно напортачила! После такого люди вешаются или стреляются!
— Всего-то? — попытался смягчить я разговор, чтобы уйти от скользкой темы. — В восемнадцать лет все так думают и почти все делают то же самое. — Хотя, конечно, это было не так, я например, лично ничего подобного не переживал, и юношеское томление духа не сотворило со мной никаких глупостей, словно приберегая меня для чего-то более важного и таинственного. Это ощущение таинственности и вело меня по жизни.
Но она не слышала мои речи. Она была вся в себе, ревизируя своё прошлое. Я поднялся, чтобы принести ей выпить что-нибудь из бара. Она сидела, нахохлившись, как ворона на ветке, и вдруг и выпалила.
— Я была нимфоманкой! — она, судорожно зажала себе рот и горько разрыдалась.
Бокал выпал из моих рук, но не разбился, потому что на полу лежал толстый персидский ковёр, лишь коньяк янтарными каплями расплескался по нему.
Я ожидал всего, чего угодно, но только не подобного признания. Для этого у меня не было даже полочки. Её вообще не существовало в природе, хотя, конечно, я мог придумать кое-что похожее, но не придумал. Что-то близкое по теме было на третьей полочке слева, во втором ряду, но всего лишь близкородственное, без всяких там крайностей эмоционального и физиологического порядка. А этот вариант был настолько редок, что я на долю секунды растерялся и ощутил себя в очередной раз обманутым судьбой: почему именно я, а не кто-то другой?
Потом я снова налил ей и себе коньяка и дал ей выпить и выпил сам. И пока коньяк действовал на нас, мы тягостно молчали. А потом.
— Если ты сейчас уйдёшь… — сказала она каменным голосом, — я тебя пойму, и мы останемся друзьями, с твоей должность, с твоей квартирой, и…
— И ты опять станешь стервой?! — прервал я её, давая понять, что понял её окончательно и бесповоротно и поэтому всё ещё нахожусь в этой огромной и холодной гостиной, а не у себя, в маленькой, уютной квартирке в Тушино на тридцать седьмом этаже, где можно тихо и безмятежно просидеть всю жизнь.
— Да! — твёрдо ответил она. — Я опять стану стервой, я завязала себя в такой узел, который до сих пор развязать не могу! Но я хочу, чтобы ты мне верил!
Она явно указала мне ещё на один слой скорлупы, который надо было разбить вдребезги, чтобы освободиться; и мне впору было я вскочить и хотя бы от злости на весь этом мир пронестись по дому, пуская из ушей дым и искры, не потому что я хотел её наказать или напугать, а потому что мне надо было выплеснуть эмоции и собраться с мыслями: женщин бросают даже из-за менее значительных проступков, хотя женщины становятся чужими, если сами этого хотят. Однако меня остановило то единственное, что искупало её — ощущение её преданности и тот, следующий слой скорлупы, который я ощутил как предтечу. Таким вещами не бросаются, их взращивают, как кристалл, их взращивают, как розу, в конце концов, просто оберегают, как собственное дитя, ведь своей преданностью она зачеркнула всё своё прошлое и моё заодно. И я знал, что у нас в запасе много времёни, очень много времени, ровно вплоть до того момента, когда она заматереет и характер у неё испортится окончательно и бесповоротно. Но даже тогда я надеялся с ней договориться и прожить длинную жизнь. Всё это моментально пронеслось у меня в голове словно я увидел наше будущее. И это будущее было небезоблачным, мало того, оно было мрачным, как зимняя буря. Но я сказал себе, что не откажусь от этой женщины. Будь что будет, а я не откажусь! И я не отказался.
Читать дальше