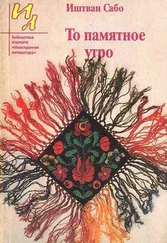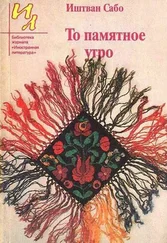Волосы у Матильды теперь не желтые, а совсем рыжие, словно пламя горящего сухого камыша. На ней простое, но элегантное платье. По цвету скорее голубое, чем белое. Такой цвет бывает у водяной лилии, прячущейся в тени под высоким обрывистым берегом.
— Добрый вечер, — говорит она и, почти дойдя до стола, сворачивает в сторону. Садится в углу, к курительному столику, не глядя, тянется к коробке с сигаретами, глаза смотрят куда-то сквозь гостей, сквозь стены. Берет в рот сигарету.
Гашпар Бор вскакивает проворно и, щелкнув каблуками перед Матильдой, галантно подносит ей зажженную спичку.
Трудное это было воскресенье для землекопов. Трудное, но благодарное. Сначала никак не хотел эконом заплатить сполна, очень уж большой казалась ему сумма. Раз шесть перемерял кубометры. А рабочие только раз смерили, вчера еще, и не отступались от своего.
— И как я мог так обсчитаться! — злится эконом. Ходит от одной бабы к другой. Смотрит, меряет. С ним ходят двое из артели.
Остальные кучкой стоят поодаль, курят.
Прикладывает рулетку к боку земляной бабы — ловчит, чтобы и до самого низа не достать, и сверху не с самого начала отсчитывать. Да только те двое, что с ним ходят, наклоняются и молча смотрят на рулетку, на цифры на ней. Так и едят глазами. Ни слова не говорят, но и это раздражает нынче эконома.
— Есть у вас совесть, мужики, столько требовать? — пытается убедить он их по-хорошему.
— Мы насчет этого не знаем, — отвечает бригадир.
— Мы только насчет того, чтобы получить, что положено.
Это уже Красный Гоз говорит.
— Да ведь это же бессердечно!
— На земляных работах сердце ни к чему. Здесь тачка нужна. Да руки. Да хозяин, чтоб платил.
Эконом и без этого зол был, а услышав такие слова, еще больше разозлился. Этот оборванец учить его вздумал! И орет во всю глотку:
— Плевать я хотел на твои рассуждения, понял?
Он уже на «ты» Красного Гоза зовет. Он всегда так с мужиками: раз на «вы», раз на «ты».
— Скажите уж сразу — на мою философию… — отвечает Красный Гоз еще тише, чем прежде. Это слово он от самого эконома слышал, который, когда в хорошем настроении, целые лекции читает мужикам о том о сем. Вроде бы для того, чтобы их уму-разуму учить. А на самом деле — чтобы все видели его образованность.
— Что-о-о? — даже не орет, а ревет эконом.
— Философию. Или как ее? Филегорию… Один хрен, — говорит Красный Гоз и пальцы потирает. Словно только что нашел какую-то драгоценность или редкостная мысль ему в голову пришла.
Темнеет в глазах эконома. Злоба заливает мозг мутной волной, шумит водоворотом и низвергается оттуда в мышцы рук, почти не владея собой, эконом сплеча размахивается раскрытой ладонью…
Но тут что-то темное, твердое мелькает перед ним, и рука, не закончив свой путь, падает бессильно. Эконом стоит в недоумении, привалившись к земляной бабе, как немощный инвалид к каменной стене. Не может уразуметь, что произошло. А в руке расплывается, пульсируя, резкая боль.
— Так-то вот, господин эконом. Зачем беретесь за то, что вам не по силам? Драться вздумали… Не по-благородному это. Нам, мужикам, еще куда ни шло… и то не всегда. А потом… если подняли руку, так уж бить надо… а то и начинать не стоит… — неторопливо говорит Красный Гоз, скручивая цигарку. Словно ему неинтересно уже, что дальше будет. А сам следит за экономом углом глаза, на всякий случай… Если дело до закона дойдет, все свидетели покажут, что он спокойно цигарку крутил. О чем только не приходится думать человеку!.. Одной ногой упирается в землю, готовый к прыжку, если эконому вдруг опять захочется драться или если за револьвер он схватится…
У эконома, однако, и в мыслях такого нет. Правда, револьвер у него всегда при себе. Но почему-то выходит так, что, когда попадает он в переплет, револьвер кажется ему ненадежным, жалким оружием. Видно, необходимо человеку что-то еще, кроме револьвера. Собственно говоря, есть ведь еще полиция, закон… Только где они? Смутно мелькает у него мысль, что человек прежде всего сам для себя должен быть и полицией, и законом. Это для каждого должно быть естественно, как, скажем, аппетит или здоровье, — и тогда все будет в порядке…
Ну, об этом у него еще будет возможность поразмыслить. А теперь не дает ему думать жгучий стыд.
Стыдно ему перед мужиками, а больше перед Матильдой, которая в бричке осталась сидеть; отсюда видно, как ветер треплет ее необыкновенные волосы…
И какая-то необычайная доброта разливается в нем теплой волной, щекочет горло, подступает к глазам. Ведь он, в сущности, хороший человек. Он только блюдет интересы хозяина, честно служит за свое жалованье — но и рабочим добра желает. Если пожурит их иногда, так это для их же пользы. Вот и сейчас, когда показалось ему, что слишком много они заработали, опять же за них он болеет. Потому что легкие деньги лишь портят человека. Известно: чем больше получаешь, тем больше хочется… И ведь не для того же помещик дает мужикам сдельную работу, чтобы они разбогатели в два счета, а для того, чтобы не подгонять их, не стоять над ними с палкой… А вообще, что такое одна пощечина? Пустяк. Он и бить-то всерьез не собирался: так, для острастки. Как отец наказывает расшалившееся дитя…
Читать дальше