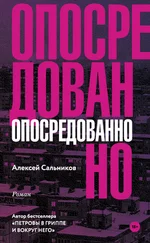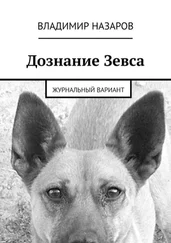Лена, притом что Дмитрий полностью отрицал ее причастность к литературе (она, в свою очередь, молчала о том, что, конечно, его фантастические писульки тоже с литературой мало общего имеют, несмотря на всю его словесную желчь и, отчасти, пафос) — поняла, что ощущает себя рядом с человеком, которому не все равно, как прикладываются друг другу слова, чего не было уже несколько лет. Это было похоже на компанию Михаила Никитовича и Снаружа, это было похоже на голод и другую какую-нибудь физиологическую неудовлетворенность. Так же совершенно Михаил Никитович забывал о повседневной какой-нибудь заботе, чтобы поговорить о том, кто как пишет и как это нужно делать, так что подчас откладывались любые, даже самые насущные дела, он порой даже рюмку забывал опрокинуть в течение пятнадцати минут, если на него находило. Под впечатлением этого родства Лена задала вопрос про холодок, на что Дмитрий с обидной уверенностью отмахнулся. «Это вот тоже для пущего эффекта, для готичности ремесла вашего больного, — пояснил он. — Даже знаю, откуда взялся этот миф, из какого ощущения читательского».
К тому времени, как пошел разговор о литературе, где-то на словах о Жуковском, Дмитрий, бессознательно чувствуя себя в родной атмосфере (и очевидно, родная его атмосфера заключалась в том, чтобы авторитетно разглагольствовать в компании развесившего уши собеседника), поменял положение своего тела: только придя, он расположился на уголке скамеечки, где уже сидела Лена, чем-то похожий на мужчину в детской поликлинике, ожидающего отпрыска, ушедшего в физкабинет, не знающего, куда себя деть, кроме как глядеть в пол, потому что разглядывать чужих детей и незнакомых женщин вроде как не совсем прилично, а свои для разглядывания и общения временно выпали из поля зрения. Заговорив о литературе, Дмитрий, в несколько неочевидных вниманию Елены приемов, расселся нога на ногу, локоть на спинку скамьи, но при всем при том в позе, видно что берегущей отбитые части тела, поэтому пусть и несколько развязной, но отчасти и жалкой тоже.
«Поясняю, — сказал Дмитрий. — Читателю в основном нравятся такие штуки, после которых будто у писателя и не было больше ничего, будто писатель выложился весь в роман, точку поставил — и помер. Пусть это не так, но ощущение, что весь в это отдаешься: в придумку, в детали, в какие-то наблюдения, чтобы казалось, будто ты за всю свою жизнь собрал самое интересное, что смог придумать, все самое такое, что тебя больше всего волновало, и про это написал. А потом все. Прекрасно, когда то и другое совпадает, как в „Швейке“, но даже если коньки не отбросил, читатель все же ждет не того же самого писателя, которого уже читали, а как бы того, который написал свою штучку замечательную, сгорел, а потом, как Христос, знаешь, поднялся и с новым опытом пошел снова свое корябать с не меньшим усердием. Пусть даже не в хронологическом порядке, все равно хочет читатель каких-то видимых изменений, как бы хочет даже посмотреть с высоты позднего романа на ранний, как после „Бесов“ „Бедных людей“ читать впервые, или „Неточку Нежданову“. Вот такое вот. Как бы ни был хорош „Золотой теленок“, все равно не то, что „Двенадцать стульев“, согласись, будто те Ильф и Петров умерли, а писали совсем другие люди. Поскольку стишки цепляют, кажется, что это не навык, а прямо вкладывание всего в эти едва ли двадцать строчек, и так раз за разом. Поэтому и придумалось, что находятся в итоге слова, которые вас приземляют навсегда. Вообще, было бы неплохо, если бы проза так же перла, как трава или стишки. Не было бы всех этих споров, хорошо написал — плохо. Поперло — значит, хорошо. Не поперло — плохо».
Лена слушала, а сама думала до чего странно все это: вот сидит перед ней совершенно нелепый человек, возможно, совершавший нелепые поступки, не добившийся ничего, кроме того, что придуманные им сказки где-то там публикуют, причем и это даже не вызывает у человека удовольствия, потому что среди других сочинителей сказок он не самый известный, не самый успешный, он пьет, упарывается, что творится у него в семье и представить страшно, и неизвестно: есть ли у него семья-то. Почему это становится неважно, пока он несет вот эти вот слова про сочинителей других сказок разной степени правдоподобности? Почему кажется, что в эти минуты он лучше, чем если бы он не был сочинителем? Почему Михаил Никитович руины своей жизни и руины своего тела мог уверенно заслонить письмом в рифму и разговорах об этом письме? Как сама Елена заметила, что стала авторитетней в глазах выпускницы, когда безжалостно препарировала изначально мертвое поздравительное стихотворение, притом что такой разбор не мог вызвать ничего кроме обиды?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Алексей Сальников Опосредованно [журнальный вариант] обложка книги](/books/423483/aleksej-salnikov-oposredovanno-zhurnalnyj-varian-cover.webp)
![Владимир Митыпов - Мамонтенок Фуф [журнальный вариант]](/books/30130/vladimir-mitypov-mamontenok-fuf-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)

![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)
![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)