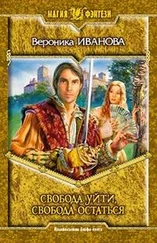—А Самоваровой мы про Щербину ничего не скажем! — сказал столичный улыбчивому, словно младенца, прижимавшему к груди брюки, отливающие блеском столичной жизни, и усмехнулся: — Кстати, в таком костюме вы теперь и в люди выйти сможете.
Только когда вертолет прошил облака и внизу поплыла сырая серая вата, Надежда перестала держаться руками за скамью, на которой сидела. Теперь уже никто не смог бы высадить ее из Ми-8.
—Простите, кому я обязана таким… чудом? — обратилась она к столичному пассажиру, сидевшему рядом с ней с закрытыми глазами. — Как вас величать?
—Витаха, — не открывая глаз, ответил мужчина.
—Это прозвище… А имя, отчество, хотя бы фамилия? — улыбнулась она. — Одного безфамильного я уже знаю. Хмурое Утро. Сказал мне, что сжег свое имя. — Мужчина, не открывая глаз, кивнул. — Ну и откуда вы, Витаха, вот такой? — Она усмехнулась.
—Из бани.
—Прямо из бани? — Надежда улыбнулась. — А из дома нельзя было?
Он отрицательно покачал головой, но глаз не открыл.
—От супруги или от ментов сбежали?
—От денег.
И тут только она увидела, во что одет ее собеседник, и перешла на шепот:
—Так вы Конфеткину, чтоб он внес меня в список, кроме пиджака еще и… брюки отдали? Учтите, я могу отплатить вам только ватными штанами… Этот ваш костюм — дорогая вещь.
—Не дороже человека. К тому же свободному человеку он не особенно нужен.
—А что нужно свободному человеку?
—Ничего… — Наконец он открыл глаза, и его губы растянулись в невольной улыбке. — Там, на острове, я завожу свой тягач и — по сопкам, по распадкам, по руслам рек — лечу туда, куда рвется моя душа. Вхожу в палатки, в охотничьи зимовья к разным людям, хоть многие здесь и не считают их людьми, и все они — личности, да, неудобные, непонятные, но подлинные, как та земля, по которой они ходят, и небо, которым дышат. И ничего им не надо от жизни, кроме тамошней воли. И все у них есть, потому ничего, кроме того, что у них есть, им и не нужно. Сутками я еду от одного выброса к другому, ем на ходу, даже сплю на ходу, и мне порой кажется, что я не еду, а лечу, потому что там у меня за спиной всегда крылья. И нет там больше никакого Виктора Николаевича, нет даже Витьки. Есть только Витаха — счастливая, пьяная от свободы птица…
54
Как легендарный маршал Шапошников, Иван Самоваров в своем кабинете навис над геологическим разрезом «Ивановского рудопроявления». Однако он не напевал себе под нос «Броня крепка и танки наши быстры» или «Не кочегары мы, не плотники», не хмурил кустистых бровей командарма, по-генштабовски не напрягал извилин. Он — пыхтел от обиды. Его, начальника экспедиции, только что выставили за дверь камеральной комнаты, где грозный член-корреспондент, главный геолог, главный инженер (хоть и не его это дело!) и, разумеется, сам начальник экспедиции Иван Самоваров обсуждали последние результаты исследований и обменивались мнениями на их счет. Начальник экспедиции по привычке лез во все, даже в то, в чем не смыслил ни бельмеса (а как же? ведь именно он был тут самый главный!), и на все имел свое самоваровское мнение. Он оспаривал, критиковал, высмеивал, а то и вовсе игнорировал мнение коллег и драчливым петушком наскакивал на присутствующих в камеральной комнате. С ним вежливо не соглашались, его терпеливо отговаривали, ему мягко, но убедительно доказывали его неправоту и почти нежно выслушивали ту ахинею, которую он нес, боясь, что, если только смолкнет, тут же перестанет быть начальником Заполярной экспедиции. Каким образом перестанет? Ведь для этого нужен приказ министерства! А вот перестанет, и все. И, уже захлебываясь на высокой ноте, Иван Савельевич сопротивлялся и изо всех сил тянул общее одеяло на себя. Долго это продолжаться не могло. Все собравшиеся здесь должны были принять довольно трудное решение о направлении дальнейших поисково-разведочных работ и обосновать это решение для министерства, чтобы последнее выделило экспедиции дополнительные средства. Член-корреспондент ерзал на стуле, скрипел зубами и катал под кожей на скулах желваки. Его дочь понимала: еще немного — и папа выскажет вслух, да еще при свидетеле, все, что думает о ее пожилом ребенке. Решительно взяв Ивана Савельевича под руку и нашипев ему что-то устрашающее в ухо, Мамалена выставила супруга за дверь.Мамалена всерьез боялась, что папа, услышав из уст Ивана Савельевича еще какую-нибудь дичь, взорвется. Да так, что уже сам выставит пожилого ребенка за дверь с какими-нибудь обидными для последнего словами, например: «У нас тут и без сопливых скользко!» И тогда уже не видать ее Ванечке от грозного члена-корреспондента былой поддержки на всех уровнях…
Читать дальше