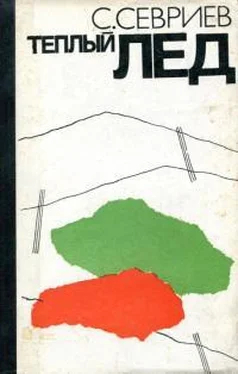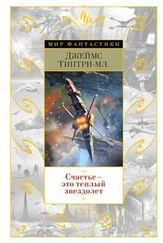— И фамилия веселая, и кругом все веселое, а я охаю…
В сознании моем что-то блеснуло. Да ведь это тот самый подтрунивающий голос, который теплыми ксантийскими вечерами смешил мою одноклассницу…
Нас вместе погрузили в санитарный эшелон, и мы вместе оказались в глазном отделении общевойсковой больницы. Во дворе, в парках Софии стояла весна, а подпоручик не мог ее видеть. К нам приходили со сладостями делегатки из женской организации и вместе с гомоном вносили в комнату и свою гордость от сознания исполненного долга. А слепой подпоручик молчал…
Нынешней весной, ровно двадцать лет спустя, я снова встретился с подпоручиком Гайдаровым. Танкисты в пригороде Софии праздновали День Победы. Гайдаров был победителем, и одна неугомонная редакция сделала нас соучастниками торжества.
Он встретил меня в своем доме. Гладко выбритый. В фиолетовых стеклах очков окна начертили белые прямоугольники. Ботинок его протеза глухо постукивал по натертому паркету. Он был в синем костюме, в галстуке, завязанном чужими руками. И улыбался. Это была улыбка и не улыбка — скорее чувство вины. Слепые всегда чувствуют неудобство, которое они нам доставляют…
— Вы все такой же! — воскликнул я.
Действительно, он изменился не сильно, но я думал, что суета зрячих захватила и его.
— Да, все такой же… — повторил он. — Я действительно не вижу никаких изменений… — Начало было неплохое. Я напомнил ему, что надо поторапливаться, а он уселся в кресло, подпер рукой щеку: — Торжества меня пугают…
Он говорил о страхе, а я улавливал в его голосе иронию… Может быть, он видел себя в президиуме, видел выставленным напоказ и не знал, идти ему или остаться. Нужно было сказать ему что-то такое, что сблизило бы нас, хотя этого достигают чаще всего не словами. Я наклонился к креслу:
— А что, разве мы не можем доставить себе удовольствие?..
— Пожалуй, можем…
У меня не было такого чувства, что я нахожусь рядом со слепым. Гайдаров говорил, повернув ко мне голову, и я как будто чувствовал его взгляд. Наши руки столкнулись над пепельницей.
— Поосторожнее, — сказал я. — Ты же можешь меня обжечь.
Плечи его затряслись от смеха. Нам стало весело.
Он принялся рассказывать мне о том, что «читал» в последнее время, что «смотрел». Мне становился ясным наш вчерашний разговор по телефону, когда Гайдаров, уловив мое смущение, сказал мне:
— Я чувствую себя совсем естественно среди окружающих предметов. Ты говоришь со мной по телефону и имеешь о моей обстановке некоторое представление. То же самое и со мной. Не видя Витоши, я ношу ее в своем воображении. Такое же представление я распространяю на весь мир…
Итак, мы уже могли отправляться.
Прошли между знамен и солдат. Лучшие подразделения гарнизона были выстроены в каре, а в громкоговорителях чей-то голос перечислял знаменательные даты победы. С трибуны говорил офицер. Он был довольно далеко, и репродукторы приближали его к нам. Фоторепортеры сновали взад-вперед с аппаратами и вспышками. Их суетливые усилия документировать историю были искренними, и событие выглядело значительным. Какой-то вежливый майор с блестящим поясом из серебряных нитей поверх парадного кителя принес нам два стула, и мы сели в сторонке под свежей зеленью распустившихся тополей. Я описывал Гайдарову все, что происходило вокруг, он кивал головой в знак согласия и удивлялся, что когда-то для него все это было таким важным. Вблизи переминались с ноги на ногу музыканты. На их медных инструментах вспыхивали и гасли золотые блики солнца. Еще в общевойсковой больнице Гайдаров забыл цвета. У него осталось смутное представление только о желтом, и он поддерживал его с помощью воображаемого блеска духовой музыки.
— Сейчас перед моими глазами непрерывно бушуют цвета… — сказал он мне.
Он говорил о глазах, а они навсегда уснули под плотно закрывшимися веками.
Люди были заняты важными делами: стояли, слушали, фотографировали, передвигались, стараясь попасть в кинокамеру. А Гайдаров вспоминал, как один впавший в панику начальник штаба бессмысленно отправил его с целой моторизованной ротой на минное поле, под автоматный огонь противника, как солдаты принесли его, окровавленного, слепого, без ноги.
Он говорил о бездарных, слабонервных, безответственных. Он мог негодовать, но не делал этого, а искал какого-то объяснения их поведению, чтобы простить все.
Возле нас стояли офицеры послевоенного поколения. Для них военная история — счастливое совпадение фактов и оперативного искусства, а мне хотелось, чтобы они не забывали и о дравских подпоручиках…
Читать дальше