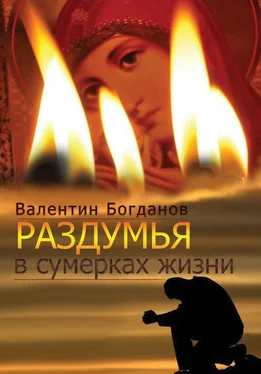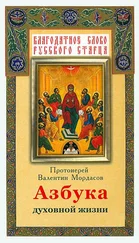Усы тяжело вздохнули, замерли, потом дрогнули:
– Ты вот что, Никифоровна, зайди-ка сейчас к своей живописной соседке и скажи ей, если есть надобность, пусть сама позвонит нам или придет. Мы все обговорим с ней и решим, как дальше быть насчет этого дела. Хорошо, Никифоровна?
Баба Уля не успела уразуметь очередное полученное оперативное задание и что-либо на него ответить, как машина сердито фыркнула и круто взяла с места. А баба Уля, упластавшаяся от долгого лазания по этажам в поисках насильника, в недоумении смотрела вслед сгинувшей за углом машине и гадала: ладно она сделала или неладно, что попусту вызвала милицию, холера их знает. Угнали молчком и ни спасибо, ни до свиданьица, и не ругнули даже, – гадай теперича, мучайся. Усатый мужик, видать, грозовой, на язык занозистый, голосище-то командирский. Так ее укомандовал, что она и мороза не чует, ноженьки подкашиваются. Ну никак не могла она взять в толк, как это можно словить преступника, не вылезамши из машины. Так ведь и старого кота в амбаре не изловишь. Поди-ка неладно делали свое дело служивые люди. Сроду, сколько себя помнит баба Уля, не приходилось ей вот так, почти нос в нос, сталкиваться с насильником и оперативниками, как сегодня. Всякое в ее долгой колхозной жизни бывало, но чтобы в доме, на глазах у людей насильничали да срывали шапки, не видала такого. Конечно, в колхозе всегда поворовывали. Тащили для себя кто как мог. Так ведь опять же без этого не прожить. Колхоз давно бы развалился, все бы поразбежались. Да и тащат-то не чужое и не с людей, а свое, колхозное…
Домой баба Уля шла не по прямой через площадку, как бежала сюда, а окружной дорожкой, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Ладно ли будет рассказывать-то своим об этой истории, ведь не изловили, а она ввязалась в нее, хоть и не по своей воле. Да и соседка, пострадавшая, не кажется на глаза, стыдится, видать, огласки. Не шибко, поди, охота быть на языке у чужих людей. Всяк посвоему истолкует, себе дороже станет. Володька, как обычно, сидит, наверное, уткнувшись в телевизор или в газету, не оторвется выслушать мать, что с ней приключилось повечеру. Буркнет, как всегда: «Не чуди, мать». А ей каково носить такую хворобу! Когда учила, да растила, да подзатыльники давала – не чудила. А сейчас только и чудит, выходит. К невестке сунуться не моги. Та опять надуется крашеными губками, изогнется, как кошка перед собакой, вся выморщится: «Мне это, мамаша, не интересно…» Ирочка, внучка, мала еще, не для ее ума эта история, а с соседями никогдашеньки никто из них не знает, чудно прямо, язви их, жить годами рядышком и не обмолвиться словом. Где это видано! И выходило, что бабе Уле и душу-то ослобонить от пережитого не перед кем. Хорошо было, когда жива была Нюра, ее одногодка, царствие ей небесное, померла летось. Зайдет, бывалоча, и шепнет на ухо:
– Давай, Уля, поговорим о политике. Как все уйдут на работу, соберемся у кого-нибудь.
– Давай, – радехонько скажет она и выладят они часок-другой, обставят чайком и наговорятся вволю. И о политике, и о преступности, и о лютующих без меры депутатах, и о своем житье-бытье, и облегчат они душу на вольном выпасе от накопившейся житейской надсады.
Только задичала теперь жизнь бабы Ули, после Нюриной смерти. С болью и остротой почувствовала она теперь свою одинокость и сиротство в большом городе, хотя жила в тепле и уюте. И приладилась хаживать в молочный магазин, что был рядышком, ближе к его закрытию, и там к комунибудь присоседивалась к разговору обо всех нонешних делах, не шибко сладких, хотя жить-то можно, по правде говоря, кабы не зубатились все разом, позабывши о деле. Да и говорить с чужим человеком о своем все равно что греметь пустыми ведрами. Проку нет – чужой он и есть чужой. Вот и сегодня возвращалась она домой с магазинного разговора, да и наскочила на это приключение. И смех и грех. Тут и вспомнишь родимую деревеньку, как затуманенное далью предрассветное утро, где прожила всю свою жизнь, схоронила мужа, ближних и дальних родственников, знакомых, кого Бог прибрал в своей домовине. А сейчас – что у нее за жизнь настала? Иной раз за день и два слова не скажет: «А да Б сидели на трубе». Дома больше все молчкуют. Наболтаются, видать, на работе, не до разговоров с ней.
Ладно ли жила она в этой жизни, в прошлой, худой ли, зряшной, Господь знает, кому как нынче кажется. А жили будто играючи, детишками обзаводились впрок. Хоть одно тогда дело делалось бабами исправно, и не надо было от зевотной скукоты бежать куда-то из дому. Это была ее, Ульянина жизнь, единственная и неповторимая, ее слезная память до конца дней своих. Соберутся, бывало, дорогие соседушки безо всякого уговора у кого-нибудь в красный календарный праздник али престольный, охристосываются выбродившей бражонкой, обмякнут душой и в расслабленной откровенности наговорятся вволю. Попоют свои задушевные песни на полный голос, без оглядки, а кто и слезой утрется. Кому приспело, да тут же свои подруженьки и помогут, разжалятся, успокоят, и засветлеет душа, облегчается от житейского перегруза. Да не стало нынче родимой деревеньки. В два дня слизали ее бульдозеры, даже столбика на помин души не оставили, хоть избенку какую в память о тех, кто жил там, копошился на земле, растил хлеб, детей; нет, все выдрали до щепки, как сорную траву какую, а на ее веселом месте, на взгорке у реки, ударно вымахали в одно лето газокомпрессорную станцию по перекачке сибирского газа в чужедальние страны. А их всех, деревенских, «разогнали» по разным местам, кому как выпало, вместе с замороченной компенсацией. Ей вот к младшему сыну вышло доживать свой век.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу