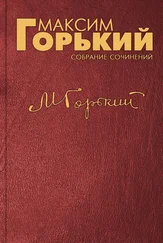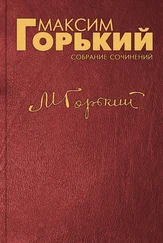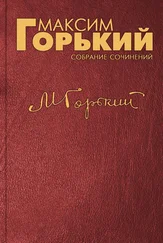Уж не знаю, которая из них была кошмарней – Катерина Павловна или Мура; я могу их ругать, потому что они еще живы. Катерина Павловна действовала тихой сапой, а Мура еще и дралась: однажды так ущипнула меня, прогоняя из спальни, что синяк на руке остался. И стоило только Крючкову или Тимоше зайти к Алексею, как Мура влетала за ними, хотя Алексей уже не хотел перед ней говорить.
Он как-то сказал, что надо наконец объявить о наших отношениях официально, но я была против: до этого никому дела нет.
Я сговорилась с другими о том, чтобы привести к Алексею девочек, пусть увидят его еще раз в своей жизни. Крючков согласился, так что и остальные не возражали. Врачам было все равно. Марфу я предупредила: как только скажу, что достаточно, сразу чтоб уходили. Алексей страшно обрадовался, он был в ясном сознании и стал им рассказывать о Максиме, об их чудесном отце, у которого было столько талантов, он рисовал прекрасно, сочинял замечательные стихи, потрясающе разбирался в технике и чем только не увлекался: и освоением Заполярья, и машинами, и гонками, всем на свете; и пусть внучки будут такими же любознательными, как их папа, пусть гордятся своим отцом. Это было блестящее представление, незабываемое, бьющее на эффект, девочки были растроганы. Алексей так всю жизнь себя вел – ведь ежели ты писатель, то должен уметь воздействовать на людей, чтобы в память им врезалось то, что хочешь внушить. Когда я сказала, что им пора, что надо еще уроки готовить, Дарья возразила: “Какие уроки! Нет у нас никаких уроков!” Алексей рассмеялся. А Марфа – сестре: “Как нет, а по немецкому языку?”
“Вижу, вижу, что Дьяволина вас прогоняет!” – сказал Алексей.
Когда сообщили, что снова едет начальство, я сделала девять уколов камфары, в общей сложности 20 кубиков, что против всех предписаний. Алексей ожил. Мы приподняли его в кресле. “Точно вознесение!” – сказал он. Я обмыла ему спину, присыпала пролежни. Сперанский снова настаивал на блокаде, но я воспротивилась. Когда вошли важные гости, Алексей оживленно заговорил о положении французских крестьян, и Сталин с приспешниками озадаченно замерли. Алексей подмигнул мне. Я отвернулась, чтобы не видно было, как смеюсь. Он, наверное, думал, что опять победил их – он нес околесицу, а им приходилось слушать. Опять провел Сталина. Что в течение многих лет было его основным занятием.
Гости выпили по две бутылки вина да и отбыли.
Семнадцатого доктора сказали, что начался отек легких. Я приложила ухо к его груди. И вдруг он меня как обнимет – крепко-крепко обнял и поцеловал. И больше уже в сознание не приходил.
В ночь на восемнадцатое, хотя смысла в том никакого не было, в него закачали 300 мешков кислорода, их привозили на грузовике, мы, выстроившись конвейером, передавали по лестнице в спальню. Крючков с горя напился, не могли его добудиться. Чекисты на кухне чего-то объелись, так что прошиб понос и начальника их, и жену его. Испугались, уж не холера ли, разразилась паника, пришлось мне призвать их к порядку. Чекисты поджали хвосты и вернулись к службе.
Восемнадцатого утром поставили клизму. Он жил еще полтора часа, но был как бы уже не живой. Бушевала гроза, но он не слышал. Скончался в кресле, перестал дышать. Было это в одиннадцать.
Врачи тут же бросились к телу, вскрытие производили в спальне, на письменном столе. Я ушла, до мертвого мне дела не было. На Крючкова было жалко смотреть. Он остался. Мозг бросили в ведро, и Крючков отвез его в Институт мозга. Он рассказывал, что вскрытие проводили радостно, с облегчением, и ликовали, когда обнаружили, что оба легких и бронхи целиком заизвестковались, чем он дышал в последние годы – непонятно. А что ликовали, вовсе не удивительно, ведь результаты вскрытия ограждали их от возможных обвинений – так они тогда думали. Сердце было совершенно здоровым, говорили врачи, хотя нагрузки ему приходилось выдерживать сумасшедшие, пульс был то шестьдесят ударов в минуту, то сто шестьдесят, но сердце могло бы служить еще тридцать лет. Если бы не чахотка. Крючков говорил: не лечи его столько врачей, то остался бы жив. Он по-своему тоже его любил.
По словам докторов, плевра у него приросла, и когда ее отдирали, она рассыпалась. Так вот почему, когда я переворачивала его в постели, он всегда стонал. Сперанский сказал, что за последние десять лет он мог умереть в любой момент. Как раз за то время, когда я за ним ухаживала.
Марии Федоровне разрешили войти, когда тело уже зашили; раньше, к живому, ее не допускали. Выглядела она ужасно, целый год проболела. Когда Алексей однажды спросил меня, как ей живется, я сказала – хворает. Алексей только молча кивнул. Я думаю, обижался он, что она у него не бывает.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу