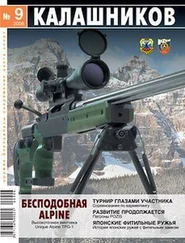Томас
Я сидел перед туалетным столиком матери и разглядывал свое отражение. Я остался дома один. Отец был в аптеке, а мать ушла к тетке. У меня было время, часа два-три мне никто не помешает. В эти часы квартира принадлежала только мне, мне одному. Можно пойти в отцовский кабинет или на кухню, в крохотную мастерскую или на чердак, и никто не станет меня искать. Можно, включив освещаемый изнутри глобус, покрутить этот тяжелый стеклянный шар или порыться в отцовском шкафу и письменном столе. Можно поиграть наградным кинжалом, который я когда-то нашел на чердаке и с тех пор надежно прятал. Можно достать из подвала банку вишневого варенья, нужно только аккуратно раздвинуть остальные банки и легонько разровнять пыль на полке, чтобы не осталось следов.
Вместо этого я сидел в родительской спальне на плюшевом пуфе перед туалетным столиком. На стеклянной подложке теснились щетки и гребни, конфетная коробка с бигуди, шкатулка с бижутерией, флакончики и баночки, духи и кремы. Я взял флакончик с пульверизатором, нажал на обтянутую зеленой материей резиновую грушу и выпустил пахучее облачко, капельки которого упали мне на лицо.
Туалетный столик был приставлен к высокому трельяжу с двумя створками.
Я смотрел себе прямо в лицо. Краешком глаза я видел собственную голову справа и слева. Изображение троилось, становилось триптихом — вроде алтарной росписи в церкви Девы Марии. Я сосредоточился, стараясь удержать взглядом сразу все тройное отражение. Глаза все время соскальзывали то в одну, то в другую сторону. Я затаил дыхание. Слегка наклонив голову, я попробовал придать лицу страдальческое и всепрощающее выражение, как у деревянного Христа на церковной кафедре. Мне хотелось перехитрить самого себя: я неожиданно резко поворачивал голову к боковой створке, будто мог успеть увидеть собственный профиль. Ничего не получалось. Каждый раз я вновь глядел прямо себе в глаза. Порой мне казалось, что я почти успел поймать взглядом свой профиль и фокус удался: я ухитрился быстрее повернуть голову, чем мое отражение.
Если сдвинуть створки к себе, то они начинали отражаться друг в друге. Отражения повторяли другие отражения, и так до почти неразличимой бесконечности. За холодным зеркальным стеклом возникала целая галерея моих портретов. У меня появлялись сотни двойников, я отодвигался в неведомую даль, становился недостижимым для самого себя. Но стоило чуть сдвинуть створку — и обманчиво-ясное видение тут же исчезало.
Затем я принялся выравнивать створки, складывать из них единую, общую плоскость. Это было трудно. Едва оно из зеркал сдвигалось хотя бы на миллиметр, как передо мной представала фантастическая, тревожная и вместе с тем захватывающая картина. Один глаз удлинялся, делился надвое и, раздвоенный, вперялся в меня. Нос распухал, становился широким, клубнеобразным и расщеплялся. Получалось два носа. Ухо тоже можно было превратить в два уха. Казалось, в одном ухе скрывается пара, готовая разъединиться. Игра так увлекала меня, что время от времени приходилось глядеться только в одну створку, чтобы убедиться в прежней нормальной цельности лица.
Я пытался отвести створки и назад. Приходилось соблюдать осторожность, чтобы не выскочили петли. Теперь часть лица исчезла. Пропал нос. Сделавшись одноглазым, я разглядывал уцелевший глаз. Вместо носа оставались только ноздри, вместо губ — только уголки рта. Прочее исчезло без всяких следов повреждений. Ни раны, ни шрамов, ни рубцов. Кожа была невредимой. Это жутко изуродованное лицо было моим лицом. Безносый лик, единственный глаз с двумя зрачками. Эта рожа была моим отражением. Моей точной копией.
В доме послышался шум. Скорей привести все в порядок! Одно зеркало опять превратить в триптих. Восстановить прежнее расположение створок. Все делается быстро, впопыхах. Напоследок я тихонько закрыл за собой дверь спальни. Сердце стучало предательски громко. В прихожей выкрикнули мое имя. Я отозвался. Голос мой был спокоен, невозмутим, невинен. У моего лица вновь появился нос, пара глаз, обычный рот.
Это пришел отец.
— Томас! — снова окликнул он меня.
Его голос был резок и слегка дрожал, готовый сорваться. Я поспешил к отцу, чтобы не разозлить его еще больше. Когда он увидел меня, то проговорил уже спокойней, но со сдержанным раздражением:
— Пройдем-ка в кабинет!
Гертруда Фишлингер
— Знаешь, кто к нам приходил?
— Нет.
— И нипочем не угадаешь. Я сама не могла себе представить, что он к нам придет.
Читать дальше