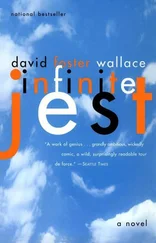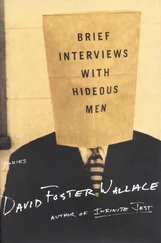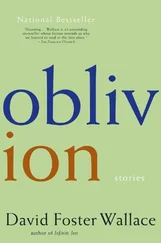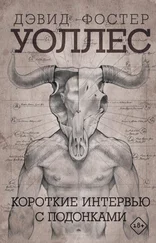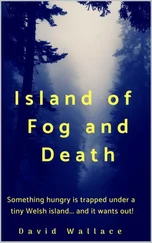С треском ожил динамик у часов в цементном зале перед сауной, возвещая громогласной заставкой с песней Джоан Сазерленд наступление еженедельного РЭТА. Пемулис поставил уличные кроссовки на полку для уличной обуви.
– Веселей, Тэ Пэ. Всего лишь припадок ангста. Ты всего лишь отходишь от временного родительского облома. А философская истина прет отовсюду, куда ни плюнь. Подумаешь, Дисней-Уорлд. Подумаешь, нос. Эсхатон жив, поверь мне. Подумаешь, если в подполье. У тебя призвание, талант. Ракетчик твоего калибра. Соберись и утрись, зайчик мой маленький.
Потлергетс отнял ладони от лица и с пустым взглядом уставился куда-то мимо Пемулиса, двигая губами в сосательном рефлексе, за который ему так доставалось от сверстников. Лицо у него в самом деле было розовым, как у малыша-плаксы. После рук на щеках остались коричневые пауки бензоиновой мази. Под глазами светили аккуратные фонари. Он смачно шмыгнул носом, все еще закрытым горизонтальными полосами хирургической ленты.
– Бикакой я бе баледкий дайдчиг.
– Так говорят все маленькие зайчики, мелкий, – ровно сказал Викинг, выдергивая что-то из носа щипчиками. Ноздри Пемулиса напоминали четырехполосное шоссе, и его обоняние стало куда острей, чем можно пожелать в раздевалке. Шкафчик Фрира рядом с глокнеровским, который рядом со шкафчиком старого доброго Инка, был открыт нараспашку, – там в свете ламп поблескивал прикрученный кольпоскоп, а также лежали большеголовые палки «Фокс» тошнотворного западнопобережного флуоресцентно-оранжевого цвета с фирменным рисунком лисы на струнах.
Потлергетс почесал одну ногу ногтями второй.
– Если уж родителям нельзя верить.
– Позволь мне тебе подтвердить и напомнить, что облом, от которого ты отходишь, основан на эмоциях, не фактах.
Потлергетс раскрыл рот.
– Ты как раз хочешь ответить, что если нельзя доверять якобы любящему патриархальному крылу, то не можешь доверять никому, а если нельзя доверять людям, то во что же верить вообще, в плане стабильной надежности, а, Полтергейст, я прав?
– Ох едрен в три бога господа не мать, начинается, – сказал Викинг в отражение лба.
Пемулис надевал носок и ботинок, наклонившись к уху Полтергейста.
– Это не какая-нибудь фигня. Ты столкнулся с серьезной эмоционо-философической проблемой. Пожалуй, ты правильно сделал, что пришел ко мне, а не стал держать все это в себе с травмическими последствиями.
– Кто-кто к тебе пришел? – Фрир поворачивал широкое лицо туда и сюда. – Это ты пришел в самый разгар хнык-хнык-истерики.
Пемулис попробовал разыграть в воображении сцену, в которой Кейта Фрира перегнули через сетку бедуины в сиреневых тюрбанах и всячески надругиваются, исторгая из него звуки, которые издавал в мучениях литовский исторический ч/б Дж. Глисон. Потлергетсу же он сказал:
– Ведь я помню, как сам столкнулся ровно с той же самой темой, правда, от куда более философизированного облома, чем эмоции.
Фрир бросил:
– Мелкий – только не спрашивай, о чем это он.
Затем вошла пара 16-летних – Г. («Отрава») Рэйдер и низовой игрок славянского происхождения, имя которого было Золтан, а фамилию никто не мог произнести, – и проигнорировала совет Фрира спасать свои шкуры и уносить ноги, потому что добрый доктор Пемулис снова прописал больному себя и готовится выдать пару тирад, и бросили экипировку, и немедленно выдернули свежие полотенца из диспенсера и принялись ими друг друга лупцевать.
– О чем это ты? – спросил Потлергетс.
– Силок захлопнулся, капкан захлопнулся, начинается.
Рэйдер крутанул запястье и завил полотенце для, как он говорил, максимажа боли. Викинг обернулся и сказал, что если почувствует на своей заднице хотя бы дуновение махры, то им капец, обоим. Пемулис доставал ракетки. Юноши-эташники 16 лет были как класс замкнутыми, заговорщицкими, гормональными, стайными. Если ты не существовал в их кругу, то не существовал в принципе. Стратагемы и техники бойкота у них были куда более продвинутыми, чем у 14или 18-летних. (Бойкотировали они, как правило, Стайса, в основном потому, что он жил с Койлом и большую часть времени тренировался с 18-летними, и общался с ними, а также с недавнего времени Корнспана – бойкотировали, – просто потому, что он был дебиловатый и изуверский, и теперь единодушно подозревался в том, что замучил и убил двух бесхозных кошек, обгорелые тушки которых были найдены на склоне пару недель назад на предрассветных пробежках). У них были собственные диалект и шифры, шутки для своих внутри шуток для своих. [278] Например, прошлым летом в первый месяц развлекухи на евроглине по заранее оговоренному сигналу юноши 16 лет сгибались и по-брахиатовски скакали с костяшками у самой земли, били в грудь и кричали снова и снова «Ээ аа ии уу аа», пока, когда они опять выкинули этот номер на таможне в L'Aeroport Orly, терпение проректора Н. Хартигана наконец не истощилось и он не впал в истерику, такую жуткую для такого высокого человека, что этот обычай тут же сгинул так же таинственно, как возник.
И в ЭТА только 16-летние лупили друг друга полотенцами, и только год-два, но когда лупили – то не на жизнь, а на смерть: краткая вспышка приверженности стереотипу качков, фаза этакой приматовой страсти к краснозадым узам товарищества в наполненных паром помещениях. Они пребывали в возрасте, когда на уме не вопрос «Что есть ложь?», а скорее «Есть ли я сам?», «Что я есть такое?», «Что все это значит?», и оттого чувствовали себя странно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу