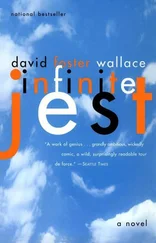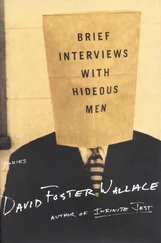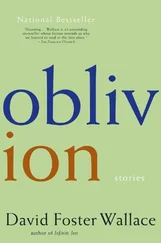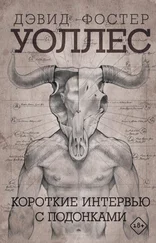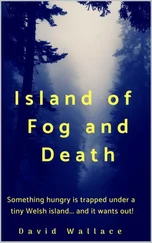Или у Джоэль какая-то проблема с большим пальцем, или ей реально интересно наблюдать за тем, как он сгибается и крутится. Она говорила:
– Так странно, когда и думать не думаешь, и вдруг встаешь выступать. Люди, которых не знаешь. Мысли, о которых я даже не знала, что думаю, пока не рассказала. На радио я неплохо представляла, о чем думаю, прежде чем говорить. Здесь же все иначе, – она, казалось, разговаривала с большим пальцем. – Я послушалась тебя и поделилась жалобой на «Кабы не милость Божья», и ты был прав, все просто посмеялись. Но еще я… Я сама не поняла, как уже рассказывала, что больше не считаю «Один день за раз» и «Живи одним днем» избитыми клише. Снисходительными, – Гейтли заметил, что о проблемах реабилитации она по-прежнему говорит натянутым, строго интеллектуальным тоном, с которым не говорит больше ни о чем. Так она по-прежнему немножко дистанцируется. Мысленный большой палец, к которому она как будто обращается. Это ничего; поначалу Гейтли дистанцировался вообще физически. Он представил, как она смеется, когда он ей это говорит, как сильно трепещет вуаль. Он улыбнулся с трубкой во рту, и Джоэль восприняла улыбку как поощрение продолжать. Она сказала: – И почему Пэт на консультациях все время говорит мне просто построить стену вокруг каждого 24-часового периода и не заглядывать ни вперед, ни назад. И не считать дни. Даже когда получаешь жетон за 14 или 30 дней, не складывать. На консультациях я просто улыбаюсь и киваю. Из вежливости. Но выступая прошлым вечером, я даже не поделилась вслух, но вдруг осознала, что именно поэтому у меня никогда не получалось бросить больше чем на пару недель. Я всегда срывалась, возвращалась. К фрибейсу, – она смотрит на него. – Я курила, знаешь. Ты знал. Вы же все читаете Приемки.
Гейтли улыбается.
– Потому я и не могла соскочить надолго, – сказала она. – Как и предупреждает клише. Я буквально не могла жить одним днем. Считала про себя чистые дни, – она наклонила голову. – Когда-нибудь слышал про Ивела Книвела? Такого каскадера на мотоцикле?
Гейтли чуть кивает, осторожничая из-за трубки, которую теперь чувствует. Вот почему у его глотки такое изнасилованное ощущение. Трубка. У него даже была старая вырезанная фотография Ивела Книвела, из старого журнала «Лайф», в белом кожаном элвисовском костюме, в воздухе, в полете, в ореоле прожекторов, верхом на байке, над рядом начищенных грузовиков.
– В Святом Колли его помнят только Крокодилы. Мой личный папочка им восхищался, вырезал фотографии из газет, в детстве, – по голосу Гейтли слышит, что она улыбается. – Но как я поступала раньше: выбрасывала трубку, грозила небу кулаком и заявляла: «Бог мне гребанный свидетель – БОЛЬШЕ НИКОГДА, с этой минуты, прямо сейчас, Я ЗАВЯЗЫВАЮ НАВСЕГДА», – еще у нее есть привычка, когда она что-то рассказывает, задумавшись, приглаживать ладонью затылок, где держат вуаль заколки и шпильки. – И я запиралась дома, завязывала на одной Самодеятельности. И считала дни. Гордилась каждым днем. Каждый день казался доказательством чего-то, и я их считала. Складывала. Выстраивала мысленно в ряд. Понимаешь? – Гейтли отлично понимает, но не кивает, чтобы она продолжала сама. Она говорит: – И вскоре это начинало выглядеть, неправдоподобно. Как если бы каждый новый день был машиной, которую надо перепрыгнуть Книвелу. Одна машина, две машины. Когда я добиралась, скажем, до 14 машин, число само по себе ошеломляло. Перепрыгнуть через 14 машин. И весь следующий год – глядишь вперед, а там сотни и сотни машин, и я в полете хочу перепрыгнуть все, – она оставила затылок в покое и наклонила голову. – Кто бы смог? Откуда я вообще взяла, что так кто-то может бросить?
Гейтли помнил несколько своих пиздецовых отходняков. На мели в Мэйдене. Плеврит в Салеме. Заставшие врасплох четыре дня в ИУМБиллерике. Он помнил и нескольконедельную абстягу на полу ревирского обезьянника по милости старого доброго помпрокурора Ревира. Взаперти, с ведром вместо унитаза, в форменной парилке, пока по полу шарашил ужасный ледяной сквозняк. Завязка. Резкая Отмена. Соскок. Дохлая птичка. Он никак не мог – но пришлось, взаперти. 92 дня в ревирском изоляторе. Чувствуя острый край каждой прошедшей секунды. Переживая время по секунде за раз. До упора его растягивая. В абстяге. Каждая секунда: он помнил: сама мысль об ощущении, что он будет ощущать эту секунду еще 60 таких секунд, – он не мог ее вынести. Просто, блядь, не мог. Пришлось строить стены вокруг каждой секунды, просто чтобы пережить их. Первые две недели в его памяти телескопически сложились как бы в одну секунду – даже меньше: в пространство между двумя ударами сердца. Вдох и секунда, пауза и перегруппировка перед каждой ломкой. По обе стороны удара сердца раскидывало свои чаячьи крылья бесконечное Сейчас. И он никогда, ни до, ни после, не чувствовал себя настолько мучительно живым. Жизнь в Настоящем между двумя ударами пульса. Вот о чем говорят белофлаговцы: жить целиком внутри Момента. Когда-то, когда он Пришел, весь день мог пролететь в миг. Потому что он Терпел Абстягу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу