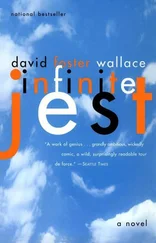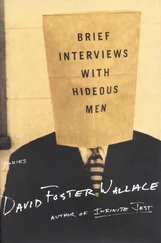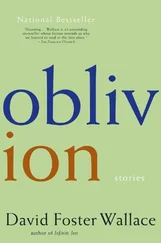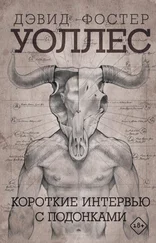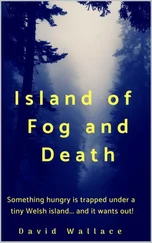Призрак говорит, просто чтобы Гейтли представлял, ему, призраку, – для того чтобы казаться видимым и общаться с ним, Гейтли, – ему, призраку, пришлось сидеть на стуле у койки Гейтли неподвижно, как истукану, примерно три недели в переводе со времени призраков, чего Гейтли даже вообразить не может. Гейтли вдруг приходит в голову, что никто из тех, кто заходил поведать о своих проблемах, не подумал сказать, сколько Гейтли уже дней в травматологии, или какой день будет, когда взойдет солнце, и потому Гейтли не имеет ни малейшего представления, сколько он уже без собраний АА. Гейтли хотелось бы, чтобы в палату проковылял его наставник Грозный Фрэнсис Г., а не сотрудники Эннет-Хауса, которым неймется поговорить о простезах, и жильцы, которым приспичило поделиться воспоминаниями о катастрофах прошлого с тем, кто, как они думают, их даже не слышит, – примерно как маленькие дети исповедуются собаке. Он не позволяет себе даже думать о том, почему его еще не навещали Органы или парни с федерально-армейской стрижкой, если он здесь уже давно, если они, по словам Болта, уже налетали на Хаус, как хомяки на пшеничное поле. Сидящая тень неизвестного в шляпе все еще в коридоре – впрочем, если вся эта сцена – сон, тени там нет и никогда не было, осознает Гейтли, сузив глаза, чтобы убедиться, что тень – это тень шляпы, а не ящика с огнетушителем на стене или еще чего. Призрак извиняется и исчезает, но стоит два раза медленно моргнуть, как снова появляется в той же самой позе.
«И за это стоило извиняться?» – мысленно подкалывает Гейтли призрака, почти с усмешкой. Из-за пелены боли от почти-усмешки глаза снова закатываются вверх. Корпус кардиомонитора кажется слишком узким даже для призрачной задницы. Кардиомонитор – беззвучный. На нем ползет белая линия с высокими быстрыми всплесками пульса Гейтли, но он не издает стерильный писк, как мониторы в старых больничных драмах. Пациенты в больничных драмах чаще всего были бессознательными фигурантами, размышляет Гейтли. Призрак говорит, что только что нанес краткий квантовый визит в старую опрятную брайтонскую двухэтажку некоего Грозного Фрэнсиса Гэхани, и судя по тому, как старый Крокодил бреется и надевает чистую белую майку, говорит призрак, можно предсказать, что Г. Ф. скоро посетит отделение травматологии и предложит Гейтли безусловную эмпатию, братскую поддержку и язвительный крокодилий совет. Если только это сам Гейтли себе не придумывает, чтобы не терять натужного позитивного настроя, думает Гейтли. Призрак грустно поправляет очки. Мы обычно не думаем, что призрак выглядит грустно или негрустно, но этот призрак-во-сне демонстрирует весь диапазон эмоций. Гейтли слышит далеко снизу, с Вашингтонки, клаксоны, повышенные тона и визг разворотов, означающие, что сейчас уже 00:00, пора рокировки. Он задается вопросом, как чтото такое короткое, как гудок клаксона, слышится фигуранту, которому приходится неподвижно сидеть три недели, чтобы его заметили. То есть не фигуранту, призраку, хотел сказать Гейтли, исправляется он. Лежит тут и исправляет свои мысли, будто говорит вслух. Он задается вопросом, достаточно ли быстро говорит его внутренний голос, чтобы призраку не приходилось нетерпеливо стучать ногой по полу или смотреть на часы между словами. И вообще, можно считать слова словами, если они в голове? Призрак сморкается в носовой платок, который явно видал и лучшие эпохи, и говорит, что он, призрак, будучи живым в мире одушевленных людей, видел, как его младший отпрыск, сын, больше всех на него похожий, самый для него чудесный и пугающий, сам становился фигурантом, ближе к смерти. К его смерти, а не к смерти сына, поясняет призрак. Гейтли задается вопросом, обидно ли призраку, когда он иногда мысленно называет его «оно». Призрак разворачивает и изучает использованный платок, точь-в-точь как обычный живой человек, который не может удержаться и не посмотреть на содержимое платка, и говорит, ничто на земле и других уголках Вселенной не сравнится с ужасом при виде того, как твой собственный отпрыск открывает рот, но не может издать ни звука. Призрак говорит, что это очерняет все воспоминания конца одушевленной жизни – как сын все дальше уходил на периферию кадра жизни. Призрак признается, что какое-то время в молчании мальчика винил его мать. Но какой прок в пустых обвинениях, говорит он, кажется, размыто пожимая плечами. Гейтли вспоминает, как бывший военный полицейский объяснял матери Гейтли, почему это она виновата, что его уволили с консервного завода. «Обида – главная беда» – еще одно клише бостонских АА, в которое Гейтли начал верить. Других винить – себя дурить. Хотя он и не отказался бы остаться на пару минут наедине с Рэнди Ленцем в комнате без дверей, когда поправится и встанет на ноги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу