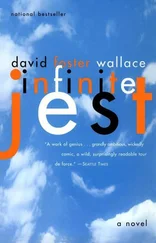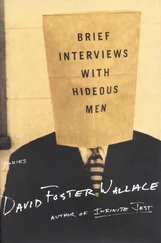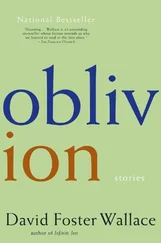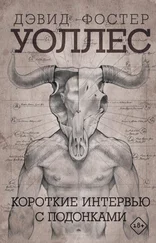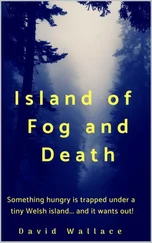Может быть любопытно, что популярное искусство США нового тысячелетия воспринимает ангедонию и внутреннюю пустоту как что-то крутое и модное. Может, это рудименты романтической глорификации Weltschmerz'а, что означает «мировая усталость» или «модный сплин». Может, дело в том, что над искусством здесь работают умудренные люди старшего поколения с мировой усталостью, а потребляют его уже люди молодые, которые не только потребляют, но и ищут подсказки, как быть крутым, модным, – и держите в уме: для детей и молодежи быть модным и крутым – то же самое, что быть любимым, принятым, своим и таким Неодиноким. Какое там социальное давление. Это же скорее социальный голод. Нет? Мы входим в духовный пубертатный период, когда вдруг осознаем, какой это великий трансцендентальный ужас – одиночество, исключенное заточение в самом себе. Стоило нам дорасти до этого возраста, как мы были готовы отдать или принять все, надеть любую маску, чтобы влиться, стать своими, не Одинокими, – мы, молодые. Искусство США – наш путеводитель по вливанию. Руководство для чайников. Нам показывают, как создавать маски сплина и черствой иронии с самого нежного возраста, когда лицо еще податливое, чтобы принять форму любой маски. А потом он так и остается – скучающий цинизм, что спасает нас от сопливых сантиментов и неумудренной наивности. На этом континенте сентиментальность равна наивности (по крайней мере, с Реконфигурации). Умудренным зрителям всегда нравился в «Американском веке через кирпич» Дж. О. Инканденцы неприкрытый тезис, что наивность – последний смертный грех в теологии Америки рубежа тысячелетий. А раз грех – такая штука, о которой можно говорить только фигурально, вполне естественно, что короткий мрачный картридж Самого был в основном о мифе, а именно том странно неотвязном американском мифе, что цинизм и наивность – вещи взаимоисключающие. Хэл, пусть и пустой внутри, но не тупой, про себя рассуждает: то, что считается крутой и циничной трансцендентальностью над сентиментальностью, – на самом деле какой-то страх быть человеком по-настоящему, ведь быть человеком по-настоящему (по крайней мере, как он это представляет) – это, наверное, неизбежно значит быть сентиментальным, и наивным, и склонным к соплям, и вообще жалким, быть в каком-то основном внутреннем плане инфантильным, быть каким-то странным на вид дитем, которое анакликтически ползает по карте мира с большими глазами на мокром месте и мягкотелой конституцией, огромным черепом, фонтаном соплей. Что среди прочего в Хэле, наверное, действительно американское – это как он презирает то, без чего на самом деле одинок: вот это отвратительное внутреннее «Я» с недержанием сантиментов и потребностей, что скулит и корчится под крутой пустой маской, ангедонией 281.
Главный и знаменитый образ «Американского века через кирпич» – струна пианино, которая вибрирует – кажется, на высокой «ре» – вибрирует и издает очень нежное неприукрашенное, понятно, соло, а потом в кадре появляется большой палец – короткий, мокрый, бледный и при этом грязный пальчик, с неопрятной грязью под уголками ногтя, маленький и без морщин, очевидно, детский, – и когда он касается струны, нежный высокий звук тут же угасает. А за ним следует мучительная тишина. Чуть позже, после язвительной и дидактичной панорамной истории кирпича, мы снова встречаем струну, и пальца нет, и высокая нежная нота возвращается, исключительно чистая и соло – и все же теперь отчего-то, с усилением звука, какая-то как будто прогнившая изнутри, что-то в этой высокой «ре» приторное, перезрелое, потенциально гниющее, а звук все усиливается и усиливается, становится чище, громче и дисфоричней, пока после на удивление немногих секунд мы не оказываемся во власти чистейшего несмягченного звука, тоскуя и, может, даже уже всем сердцем желая, чтобы детский большой палец вернулся и прекратил его.
Хэл еще мал и не знает: эта онемелая пустота – еще не худший вид депрессии. Что пустоглазая ангедония – всего лишь прилипала на брюхе настоящего хищника, великой белой акулы боли. В авторитетных кругах это состояние называют клинической депрессией, или инволюционной депрессией, или униполярной дисфорией. Вместо просто неспособности чувствовать, вместо омертвения души депрессия хищнического уровня, как всегда кажется Кейт Гомперт в течение Отмены тайной марихуаны, сама по себе – чувство. Оно известно под многими именами – тоска, отчаяние, мука, или см. меланхолию Бертона или психотическую депрессию более авторитетного Евтушенко, – но Кейт Гомперт, которая с ним живет, вернее, выживает, называет его просто Оно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу