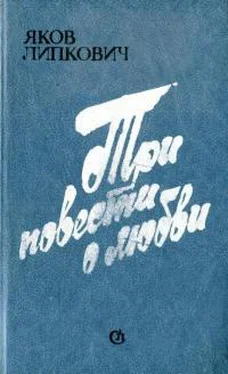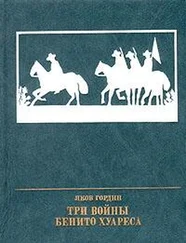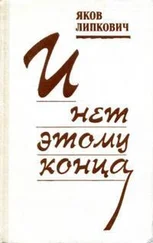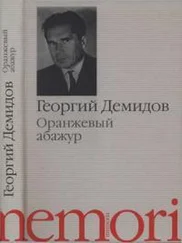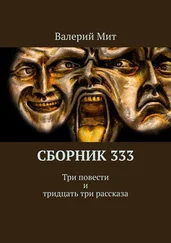И вдруг он ощутил легкое, осторожное прикосновение к руке, лежавшей на подлокотнике. Он вздрогнул и резко повернулся в кресле. Светлана смотрела на него каким-то не своим, неподвижным взглядом. Ипатов в одно мгновение забыл об обиде. Сердце заколотилось так, что на некоторое время, как показалось Ипатову, заглушило музыку.
Светлана придвинулась к нему и тихо сказала:
«Не дуйся, хорошо?»
«Хорошо», — немедля согласился он.
И она ответила на это очаровательной мальчишеской улыбкой…
Легко сказать — отвлечься от сердечной боли, не думать о ней. Йогам это, может быть, и под силу. Но он не йог, и чем отчаяннее он пытался думать о постороннем, тем упрямее напоминало о себе сердце. Да и мог ли он думать о чем-нибудь постороннем здесь, на этой проклятой лестнице, где все, буквально все кровоточило, как старая, неожиданно открывшаяся рана. И даже эта ступенька, на которой он скорчился от боли, медленно прорастала воспоминаниями. Кажется, на ней, а может быть, чуть ниже или выше они сидели в тот вечер с Валькой Дутовым и попыхивали папиросами (сигареты тогда курили еще немногие). Разговор шел, наверно, о Светлане — о ком же еще? — и, надо думать, Валька по-прежнему отговаривал его волочиться за нею. Бедный, бедный Валька… Для него уже все позади — и радости, которые он не замечал при жизни, и беды, накатывавшие на него одна за другой. Но если о других неудачниках еще можно сказать: немилосердно швыряло, как щепку, бурливое житейское море, о нем этого не скажешь: он сам выбрал себе судьбу. Достаточно вспомнить хотя бы тот случай, когда он, к удивлению всех, вдруг ни с того ни с сего ушел со второго курса Университета. Добро бы учился плохо, имел многочисленные «хвосты». А то с первых же дней учебы он поражал всех — и преподавателей, и студентов — своими способностями. Он мог часами читать на память стихи давно забытых поэтов, о которых Ипатов и другие студенты-фронтовики и слыхом не слыхали: Анненского, Вячеслава Иванова, Цветаевой. У него было то, что пока отсутствовало у большинства ребят, — удивительное чувство слова. Казалось, путь в филологи определен ему самой судьбой. Но за месяц до сессии он неожиданно перестал ходить на занятия. Посланцев курса он встретил лежа на диване, в обнимку с каким-то шелудивым непородистым псом.
«Познакомьтесь!» — сказал Валька.
И пес каждому вежливо подал лапу.
«Он может делать стойку, подавать тапочки, считать до пяти, играть в футбол и хоккей, ухаживать за женщинами, сдавать экзамены, — перечислял достоинства своего четвероногого друга Валька. — А ведь у него нет ни высшего, ни среднего, ни даже начального образования…»
«Ты к чему это?» — насторожились гости.
«К тому, братцы, что мне все до чертиков надоело… Мы сильнее, чем прежде, грустим, постарели все боги земные, вселенная голосом плачет твоим, и приходят созданья иные одно за другим… Ребята, хотите выпить?»
И лучшие из лучших (комсорг, профорг и Ипатов, замещавший заболевшего старосту группы) надрались так, что начисто забыли, зачем пришли. По настоянию отца Валька поступил в Медицинский институт, но и там продержался чуть больше года. «Резать живых людей еще куда ни шло, — заявил он старым друзьям. — Но трупы?» Потом он, рассказывали, учился не то в Театральном, не то в Библиотечном. Но наверно, опять не кончил, ибо при встречах вел себя очень странно: где работает — не говорил, всячески темнил. С каждым годом он все больше опускался, и уже многие замечали, что он выглядел значительно старше своих лет. Однажды Ипатов встретил его на улице вдрабадан пьяного. Валька едва стоял на ногах, был жалок и беспомощен. Пришлось проводить его до самого дома. Жил он на девятом этаже в крохотной однокомнатной квартире. Оказалось, что месяц назад от него ушла вторая жена. На всем был налет страшного запустения: немытая посуда, толстый слой пыли, неприбранная постель и в каждом углу батарея пустых бутылок. Заплетающимся языком Валька возвестил: «Батя сказал, что я позорю его седины, что он не намерен поддерживать со мной никаких отношений. Он теперь сам по себе, а я сам по себе».
Было еще несколько мимолетных, случайных встреч — на улице, в прокуренных забегаловках, один раз в театре — играли какую-то плохонькую пьеску, зрители начали уходить уже с первого действия. Ипатову запомнилась грубо размалеванная девица, которая мертвой хваткой держала Вальку за рукав пахнущего химчисткой пиджака. Валька был трезв, чуть стеснялся Ипатова. О спектакле он, вопреки ожиданию, отозвался уважительно…
Читать дальше