– Ты стремишься к тем, кто тобой не интересуется. Тебя в ней привлекает то, что ты ей не нужен. Что в ней еще может привлекать?
Что?.. Все дело в ее пальце. В кривом мизинце.
Очень тоскую, если бы можно было плакать, я бы заплакал и плакал до весны, как медведь. Медведь, конечно, не плачет, а спит, но я в том смысле, что хотел бы уйти из мира надолго, до весны.
Разговоры о литературе, вторая пятница после каникул
– Ну и где же твоя Нобелевская? Ты ведь всерьез рассчитывала на Нобелевскую премию…
– Не думаю, что ты можешь судить о литературном процессе! Ты не используешь даже те небольшие способности, которые у тебя есть. Достаточно прочитать один твой роман, и как будто прочитал все: хороший финал, у каждого персонажа к финалу устраивается личная жизнь.
– А у тебя всегда все черно, хоть вешайся, – быстро ответила Мамочка.
– Это литература. Мне не надо любить персонажей, я писатель, а не сочинитель коммерческих историй.
– Почему коммерческие, почему?! Я пишу от души, я не виновата, что людям нравится, что у меня большие тиражи… Это у тебя три с половиной читателя, а у меня тысячи… Тридцать книг умножить на тиражи – будет… Что ты так смотришь?
– Послушай, ты и правда такая дура или прикидываешься?
– Сама дура.
Не верите, что вот такой разговор о литературе я услышал, когда пришел домой в первую пятницу после каникул?
Есть такая карточная игра «Веришь – не веришь». Там один игрок кладет стопку карт рубашками вверх и говорит, к примеру: «Три туза, веришь?» – а другой игрок кладет поверх стопки свои карты и говорит: «Еще четыре туза, веришь?» – но вы же знаете, что в колоде не может быть семь тузов, и отвечаете «не верю», – и тут он вам говорит: «Не веришь? А зря». И оказывается прав.
Не верите, что взрослые люди, писательницы, так разговаривают? А зря.
И о чем бы они ни говорили, разговоры были похожи на ссору, когда начинается холодно, становится все горячей, и вдруг обе теряют лицо и, как дети, кричат друг другу «а ты, ты сама!».
Мамочка называла ее Карл.
Карл сказала мне звать ее Карл, потому что это ее прозвище с юности, так ее зовут все. Карл звучит довольно грубо, ей подходит.
Мамочка с Карлом бесконечно пили чай, смеялись, разговаривали об умном (об опере, чем опера первой половины XIX века отличается от оперы второй половины XIX века) или совсем о глупом (о пижамах, какие лучше), ссорились (из-за оперы и пижам). Карл любит спорить, она глупо агрессивная, ей нужно доказать свою правоту. Неважно, речь идет об опере или о пижаме. Мамочка уступчивая и умная.
Иногда не понять, ссорятся они или играют в ссору.
– Сколько ты один свой роман пишешь, три месяца? А я три года, – насмешливо говорит Карл.
– Да, у меня тиражи и гонорары, – говорит Мамочка, – не надо завидовать.
– Это ты завидуешь, писатель Клара Горячева: у меня имя, премии, признание в литературной среде, а к тебе даже не относятся как к писателю…
Мамочка обижается и по-детски говорит:
– Ну, раз я тебе завидую, может, тогда не будем дружить?
Карл в ответ едко улыбается:
– Давай не будем! А зачем мне твоя дружба? Чтобы гулять с тобой в Таврическом саду? Слушать твои откровения, твое нытье? У меня для этого есть Чучело мужа!
Я совсем забыл про Чучело мужа.
Чучело мужа – это высокий седой человек с некрасивым благородным лицом. Чучело мужа говорит на нидерландском, французском и немецком, немного на английском. Но по-русски не говорит. Он просто сидит за столом и улыбается. Карл не хочет ему переводить, она говорит: «Ничего, ему и так смешно». Когда мне кажется, что он слишком уж долго молчит, я начинаю с ним разговаривать, но разговор у нас не особенно получается: я говорю на английском, а он отвечает на немецком.
Татка считает, что все, что происходит, ужасная подлость: Мамочка сидит за столом с моей родной матерью как ни в чем не бывало. Не открыла мне правду и нисколько не переживает.
– Они делают с нами что хотят: хотят – врут, хотят – скрывают… – говорит Татка, – как будто ты в этой истории вообще никто, как будто тебе не важно, чей ты сын.
Я киваю – не хочу спорить с Таткой, которая привносит во всю эту историю свою личную боль – как будто мне мало своей боли! На самом деле я благодарен Мамочке за то, что она даже не пыталась «открыть мне правду». Я не хочу, чтобы мне открывали правду. Не хочу: «Андрюша, есть новости: писатель Карлова – твоя мать» или «Андрюша, ты уже взрослый, знай, что ты приемный ребенок». Нам обоим больше нравится умалчивать, преуменьшать проблему, не разыгрывать драму, не травмировать друг друга, не говорить по душам, вести себя так, будто не требуется слов.
Читать дальше
![Елена Колина Ты как девочка [litres] обложка книги](/books/420430/elena-kolina-ty-kak-devochka-litres-cover.webp)


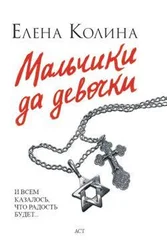

![Елена Колина - Посмотри, на кого ты похожа [litres]](/books/400060/elena-kolina-posmotri-na-kogo-ty-pohozha-litres-thumb.webp)
![Елена Колина - Я не ангел [litres]](/books/401257/elena-kolina-ya-ne-angel-litres-thumb.webp)
![Елена Булганова - Девочка, которая ждет [litres]](/books/418494/elena-bulganova-devochka-kotoraya-zhdet-litres-thumb.webp)
![Елена Булганова - Девочка, которая спит [litres]](/books/418495/elena-bulganova-devochka-kotoraya-spit-litres-thumb.webp)
![Елена Булганова - Девочка, которая спит. Девочка, которая ждет. Девочка, которая любит [сборник litres]](/books/436759/elena-bulganova-devochka-kotoraya-spit-devochka-ko-thumb.webp)


