— Что… что с тобой? — встревожился Ветлугин.
— Уйди, мне помолиться надо, — пробормотал Галинин, испугавшись проницательности фронтового приятеля.
Ветлугин недоверчиво посмотрел на него, вздохнул и молча вышел.
Оставшись один, Галинин поправил в лампаде фитилек, опустился перед божницей на колени, тихо сказал:
— Помоги мне, боже, избавь от душевных ран. Видел тебя, слышал твой голос, а все равно тяжело. Хочу жить только для людей, хочу творить только доброе, полезное, а оно вон как обернулось. Неужели я ошибся, когда решил — выше служения тебе ничего нет?.. Прости мне, боже, эти мысли, прости грехи — те, что были, и те, что будут. Благодарю тебя, боже, за травы, по которым хожу, за шелест листвы, который слышу, воздух, которым дышу. Благодарю тебя, боже, за чудо, совершенное тобой на фронте. Любил тебя, потому что только в думах о тебе, в своих сомнениях видел смысл своей жизни и свою силу. Трудно мне, боже, горько. Покоя хочу, монастырской тишины. Не искушай меня, боже, отведи мирскую любовь, если это действительно любовь, соедини ту, о которой думаю, с Ветлугиным. — Слезы побежали по щекам отца Никодима, борода стала мокрой. Он вытер лицо рукавом, простонал: — Прости меня, боже! Прошу — соедини, сам же думаю — не надо. Знаю, что не могу быть с ней, а она — в мыслях. Сильно виноват перед женой своей, перед Квашниным. Теперь до конца дней своих буду каяться и думать о них.
Галинин молился долго, и крупные слезы падали на его исхудалые руки. Окончив молиться, он сел в глубокое кресло с протершимися подлокотниками. Ворот подрясника был расстегнут — виднелся пропитанный потом гайтан; неяркий свет керосиновой лампы падал на бледное, измученное лицо, пальцы шевелились, словно перебирали четки. Он чувствовал: отныне в этом селе ему нечего делать. К тому же он очень боялся встретиться с Квашниным, боялся шушуканья, дурной молвы, несомненно возникшей бы после этих встреч, боялся укоризненного и вместе с тем жалостливого взгляда Ветлугина, который, наверное, сказал бы: «Вот видишь», что означало бы — прав он, а не Галинин. Ему хотелось избежать всего этого, хотелось обрести покой, душевное равновесие — то, что он надеялся найти, когда приехал сюда. Помимо воли в его голове начали складываться слова последней проповеди, с которой он намеревался обратиться к пастве, но которая предназначалась не только для верующих.
Вначале Галинин мысленно спросил себя, какой он — хороший или плохой. Хотелось думать о себе только хорошо, но где-то глубоко-глубоко в голове постукивало: ты совсем не такой, каким стараешься казаться. Слова Ветлугина, сказанные им в новогоднюю ночь, стойко держались в памяти: горько было услышать от однополчанина, что от него, отца Никодима, нет никакой пользы людям. Потом Галинин вспомнил фронт — самые тяжелые, но и самые стоящие годы в его жизни. Окопы, туман над речкой, горьковатый, самосадный дымок, лица однополчан, на которых было все — и страх, и надежда, и уверенность. Галинин вдруг понял, что он, живой и невредимый, ответствен перед своими сверстниками — теми, кто лежит в братских могилах под Москвой, под Сталинградом, в Белоруссии, в странах Европы, кто мог бы в эти послевоенные годы выращивать хлеб, выплавлять металл, возводить дома, кого нет, но кто навечно в памяти.
— Послевоенные годы… — прошептал Галинин и услышал свой голос.
За тысячи километров отсюда были разрушены города, села, железнодорожные станции. Люди там восстанавливали дома, школы, клубы.
«А что полезного, нужного обществу сделал я за эти послевоенные годы? — спросил себя Галинин. — На фронте я осознавал свою значимость, был одним из тех, кто избавил мир от коричневой чумы. А теперь… Кто и что я теперь?.. Нет пророков на нашей планете и не будет! Но у каждого из нас, черного, желтого, белого, есть своя Отчизна — самое главное в нашей жизни. Где бы ни пришлось тебе жить или скитаться, ты будешь вспоминать свою Родину, мысленно обращаться к ней. Прилепившаяся к скале сакля, убогая хижина на каком-нибудь островке, покачивающаяся около причала джонка, рисовое поле с шныряющими между стеблей мальками, городской дом на тихой улочке, от которого давным-давно не осталось и следа, одинокое деревце на пустыре, тоскующий гудок фабричной трубы, возвышающейся над бараками или каменными строениями, похожими на казармы, всполохи в ночном небе от мартеновских и доменных печей, грохот прибоя, пахнущая рыбой сеть, раздолье большой реки или говорливый родничок с прозрачной водой, щедро льющейся в подставленную ладонь, — все это твое, и только твое. И ты, сохраняя это в памяти, должен до последних дней жизни любить Отчизну и верить: наступит день, когда не будет ни войн, ни страданий, ни страха, ни обмана, когда великое творение природы или бога — это уж как угодно тебе — Человек станет кристально чистым, добрым, великодушным к ближнему своему…»
Читать дальше
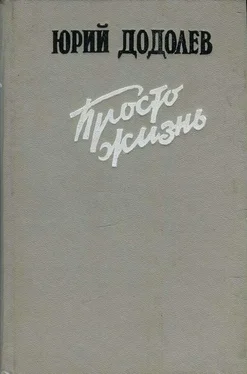




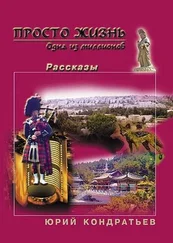



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


