— Не надо!
— Почему, сын мой? — удивленно и обескураженно спросил Галинин.
Из груди Квашнина вырвался не то хрип, не то смех, губы побелели.
— Я вам не сын, а вы не отец мне! Да и какой вы отец, когда я на целых десять лет старше вас?
Галинин ответил, что это пасторское обращение к верующим, что он вправе назвать сыном любого прихожанина, даже старика.
Квашнин рассмеялся — зло, с вызовом.
— Нехорошо, нехорошо, — с мягким укором сказал Галинин, подавляя намерение снова назвать этого человека сыном.
— Действительно, нехорошо, — согласился Квашнин, жадно хватанув исказившимся ртом воздух. — Нехорошо лгать, обманывать людей, нехорошо внушать им то, чего не было, нет и никогда не будет!
— Я что-то не совсем понимаю вас, — пробормотал Галинин.
— Прекрасно понимаете! — возразил Квашнин. Его взгляд выражал нетерпение, на чуть выступавших скулах появился слабый румянец. — Я ведь верил, пусть недолго, но верил. Теперь даже страшно вспомнить, какими словами просил я вашего бога продлить Людочке жизнь. Нет, не даровать, а только продлить. Она была единственной отрадой в моей жизни. Поймите, единственной! Ради нее я поверил, ради нее жил, молил бога отвести от нее болезнь. Если бог всемогущ, как постоянно твердите вы и такие, как вы, то почему он не внял моим молитвам? Ведь бог должен был видеть, как живу и страдаю я.
Галинин хотел сказать, что осуждать бога — большой грех, но Квашнин опередил его:
— Наперед знаю, что ответите, к чему будете призывать. — Изменив голос, он прогнусавил: — «Все во власти божьей, Христос страдал, и нам велел страдать…» Не хочу этого! Не хочу даже думать о боге. А тех, кто еще думает о нем, кто чего-то ждет от него, жалею всем сердцем. Не могу простить себе, что столько зряшных часов провел в бесполезных молитвах. Лучше бы около Людочки находился — это бы осталось в памяти. Вы обманщик, гражданин поп, и все, что вы делаете в церкви, — обман! Уезжайте из нашего села, не мешайте людям жить так, как они должны жить. Слабых вроде меня еще много, и вы беззастенчиво пользуетесь этим.
В глазах Квашнина появилось презрение, рот был по-прежнему перекошен.
Галинин вдруг отчетливо понял, что может сказать этому человеку лишь те слова утешения, которые он много раз говорил раньше. Было очевидно, что Квашнин не нуждается в его утешении и, наверное, никогда не будет нуждаться в нем. Возникла мысль, что он никому не принес пользы, что его жизнь в этом селе серенькая, бесполезная.
2
Вечером Рассоха заявила мужу:
— Видать, помрет наша матушка.
Тимофей Тимофеевич — в расстегнутой рубахе, расстегнутых портках — мучительно соображал, где бы раздобыть денег. Ему уже давно не хватало четвертинки, душа требовала вина. Иногда приваливало счастье — подносили приятели или удавалось выпить на поминках, крестинах, свадьбах. Можно было сбегать в магазин и выклянчить водку в долг, но полной уверенности, что продавщица «войдет в положение», не было, а топать через все село просто так не хотелось.
Его раздумья прервала Рассоха.
— Оглох?
— Чего?
— «Чего, чего»… Наша матушка, говорю, помрет, наверное.
— A-а… — равнодушно обронил Тимофей Тимофеевич и сразу же подумал, что на поминках он сможет выпить столько, сколько влезет.
Он представил себе жену попа мертвой, мысленно увидел большие поминки. Тотчас же ему стало стыдно, и Тимофей Тимофеевич помотал головой, стряхивая нехорошие мысли.
— Мотри, отвалится, — сказала Рассоха.
Уловив в голосе жены игривые нотки, Тимофей Тимофеевич вкрадчиво попросил тридцаточку.
— Вона чего понадобилось! — возмущенно откликнулась Рассоха. — Лучше бы снег от избы отгреб. Попадет вода в подпол — вся картоха помокнет.
— Колька придет и покидает.
Рассоха бухнула на стол чугун.
— Хватит на Коляню всю домашнюю работу наваливать! Он каждый день помогает, а ты, будто немощный, сиднем сидишь.
— Устаю.
— Все устают. Я как белка в колесе кручусь.
— Пореже бы в поповский дом бегала. За прислугу стала. Хоть бы платили, а то ведь все задарма.
— Типун тебе на язык! Наш батюшка хуже дитяти, а жена хворая. Сам господь повелевает помочь им. — Рассоха уже не могла остановиться, перечислила все грехи мужа, отшлепала ребятишек, когда они разревелись, воскликнула: — Вона чего делается!
У Тимофея Тимофеевича рябило в глазах, внутри все пересохло — только вино могло спасти. Заложив ладонями уши, он уперся локтями в стол, уныло подумал: «Разве это жизнь? Каждый день одно и то же — чумазые рожи, скандалы». Хотелось думать о себе с жалостью, но наплывало другое. На фронте семейная жизнь представлялась раем, сердце постоянно было в тревоге — как там дома? Он даже сна лишился, когда жена сообщила о болезни Коляни. Пристроившись, на пенечке, коряво писал ей — наставлял, давал советы. После победы как манны небесной ждал демобилизации; в поезде, неторопливо тащившемся через всю страну, прикидывал, сколько дней осталось до встречи с женой и детьми. Умиленный, сажал сильно повзрослевших ребятишек на колени, тыкал себя в грудь пальцем, восторженно повторял: «Я папка ваш, папка!» Потом снова началось — пеленки на кухне, поиски приработка, нелады в семье, и то, что на фронте казалось раем, мало-помалу превращалось в ад.
Читать дальше
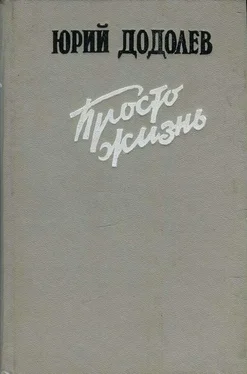




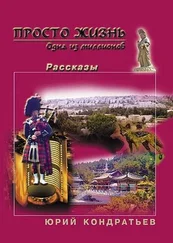



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


