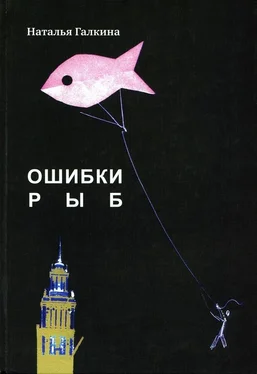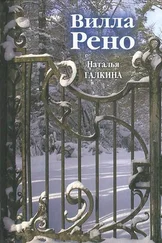— Что там? Живые рыбки? Морские коньки?
Он не отвечал. Я подошла.
Большая голова с нежно-розовым лицом и развевающимися редкими волосами, всегда в профиль, глядела на меня, проплывая, ясным зеленоватым глазом, точно полукамбала, голубыми тенями обвело веки. Навстречу ей плыла другая, поменьше, размером с человеческую, напоминавшая эскиз аниматора к мультипликационной «Гернике» Пикассо, вот уж у этой-то головушки оба глаза были на одной стороне, она была камбала в полной мере, и с легким отвращением, оттенявшим то ли страх, то ли трепет, смотрела я на ее точеный профиль. Рты у голов были полуоткрыты, как у статуй тайного сада, зубы белели жемчужинками, струился темный йодистый тинный бульон мраморного водоема. Вот проследовала натуральная медуза, но с человеческим ухом, а за ней всплыл со дна круглый, величиной с детский мячик карий глаз, чья орбита напоминала маленькую планету, я не рассмотрела его, он ушел в темную глубину. А вот и одинокое большое ухо, ушная раковина, а вот рука, совершенная, точно рука Венеры Милосской с настоящей раковиной в точеных пальцах, а следом маленькая русалочка со стеклянной погремушкой. Для человеческого взгляда были они неприятно разномасштабны, у темного их бульона представления о масштабе не было.
— Вот тебе и лабораццо, — сказал Виорел. — Лаборатория авангардистских монстров. Смотри, какая гаргулька подплыла. Как думаешь, она нас видит? Может, она на нас злится?
— Мы ей глубоко безразличны. Но вроде видит она, то ли любопытствует, то ли у нее условный рефлекс, словно у рыбки аквариумной: кто-то подошел, сейчас мотыля даст. Или — что-то подошло… Я не сплю? Мы вправду видим их? Откуда они взялись, эти химеры? Самозародились в болотистой водичке из темных ключей глубокой древности?
— Этих химер создал я. Вживе и въяве.
По лестнице спускался человек, я не помню, что удивило меня больше: русская ли его речь, римская ли тога, военная ли униформа следующих за ним двоих.
— Создали? — спросил Виорел. — Зачем?
— Искусство для искусства. Возможно, чье-то воображение уже создало их задолго до меня. В сущности, мифологические существа — блистательные недоделки из бульона. Существовавшие, так сказать, в предании, на словах. Я вернул их яви, потягавшись с богами. И мои создания, мои уникальные живцы великолепны.
— Вы почитаете себя за сверхчеловека?
— Я выше, — сказал он, усмехнувшись.
Подойдя поближе, он разглядывал нас, а мы рассматривали его. Двое военных неведомой армии стояли за ним — за левым плечом и за правым. И мелькнуло у меня: ежели у человека за правым плечом ангел, а за левым, тьфу-тьфу через левое плечо, черт, у этого демиурга с короткой стрижкой цезаря по черту и за тем плечом, и за этим.
— Откуда вы взялись, Ренцо и Барбарина?
— Из Петербурга автостопом, — отвечала я, хотя ответа он ждал от Виорела.
Как выяснили мы в ближайшие дни, вся его обслуга одета была в экзотические длинные белые халаты или в военную форму («эскизы я делал сам», — с гордостью сказал он) таинственной армии («армии спасения человечества от иллюзий», — уточнил он высокопарно, хотя, на мой взгляд, никакого уточнения в его замечании не наблюдалось). Флаги на флагштоках возле площадки для вертолета за главным садом менялись в зависимости от настроения хозяина. Разумеется, он и эскизы флагов делал сам. Ни мне, ни Виорелу уже не приходило в голову спросить: какого такого государства флаги? оба мы знали, что он ответит нам цитатою: «Государство — это я».
Каждый день он менял и имена свои, представляясь нам за завтраком либо ужином то Каем, то Эрнстом, то Петром Петровичем, то Септимием, то Джироламо. Нас же он заставлял менять одежды (и сам был чрезвычайно охоч до маскарада).
— Не зря же я приказал Альбертино слетать вам за гардеробом, он его прекрасно подобрал, вы должны быть инь и ян, а не гермафродиты в полотняных штанишках.
Альбертино был кудряв, красив, услужлив, при этом слегка капризен. Мы никак не могли определить, на каком языке он изъясняется с хозяином Лабораццо; иногда нам казалось, что это итальянский диалект неведомой миру волости.
— А этот юноша, Альбертино, он кто? — спросила я.
— Он мой бой-френд, — ответил Виорелу вторничный Петр Петрович. — Смотрите, чтобы он не приревновал, отравит, чего доброго.
Тут он расхохотался, хотя особо смешной мы его шутку не находили; в каждой шутке есть доля шутки, пояснил он.
В первый же день нашего пребывания в Лабораццо он заявил:
Читать дальше