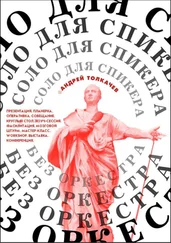Ах, как екнуло и зачастило у нее сердце. Тридцать девять лет она с ним даже словом не перебросилась. Тридцать девять… Такие годы и сосчитать-то долго, а уж прожить… Она еще совсем девчонкой была, крестьянской дочкой, выросшей без отца, когда вышла за него, за парня в «шевиоте» — так называли тогда на Планине покупные костюмы. В «шевиоте» ходили только городские, а свои, деревенские, носили одежку простую, из домотканого холщового полотна.
Многое с годами забывается, но та давняя история стоит перед глазами как вчерашний день.
Жениха для нее присоветовали тогда матери-вдове на ярмарке, да-да, именно на ярмарке. Его брат пас овец на хуторе за Планиной, а на той злосчастной ярмарке торговал всем, что перепадало на стороне. Мать даже не знала, откуда они родом. Разговор они вели степенно, без того шума и крика, к которому все привыкли в здешнем краю. И было лишь известно, что мать их жила где-то далеко, на мадьярской стороне.
Свататься пришел — господи, боже мой! — в черном пиджаке, до блеска начищенных штиблетах, с лихо заломленными на лоб полями шляпы.
— Мама, я не хочу за него! — несмело пролепетала она, столкнувшись с ней в сенях, когда та несла гостям угощение. Сваты в это время сидели за столом в горнице.
— Помалкивай! Парней сейчас нет, война на носу. А тебе уже пора.
— Посмотри, ведь он же весь в «шевиоте»!
— Дуреха ты! Значит, есть у него деньги, раз справляет себе такую одежу. И не пьющий! Рюмка перед ним уже сколько стоит, а он даже не притронулся. Ну-ка, иди скорей в дом, покажись ему.
Свадьба была богатая. Мать потом целых два года расплачивалась с долгами. Не могла она допустить, чтобы два гостя ели из одной тарелки; даже дети и те не ютились со своими надбитыми мисками где-то в сторонке, а у каждого было место за столом и перед каждым — отдельная тарелка. После свадьбы еще долго по всей округе чесали языки, что, мол, вдовушка из Чаковки совсем помешалась на этих тарелках.
А какой только еды не наготовили! И суп с лапшой, и жареное мясо с перцем, одних голубцов, почитай, штук двести завернули, да еще — слыханное ли дело! — кур жареных подавали. Сегодня все это, может, и смешно, но по тем временам был пир на весь мир. Даже кум с кумой не захотели ударить в грязь лицом и принесли всего столько, словно у них было не четыре, а восемь рук. Кум в одной руке держал огромную бутыль вина, а в другой — два литра ржаной паленки. Кума же притащила две корзины пирогов, а за спиной — целый узел разных подарков: полотна на блузку, бежевый, расшитый цветками клевера платок, зеленого бархата на юбку и кофту. Крестница принесла торт, а в корзине — розмарин и барвинок для украшения свадебного стола и гостей. А крестник — ему тогда было четырнадцать, шустрый такой мальчик, — после войны на мине подорвался… Сейчас она уж и не вспомнит, что же он тогда принес? Кур, что ли… Ну да, конечно, кур!
Со стороны жениха на свадьбу пришел лишь его брат — тот самый, что пас овец на Планине, какая-то худая, забитая женщина да кучка сопливых ребятишек.
— А ведь должен был еще прийти и твой младший брат, — осторожно попыталась выведать у жениха невеста, огорчившись скудостью его родни.
— Шут его знает где он. Вообще-то… его приглашали… — невнятно пробурчал жених.
На свадьбе он сидел в том же самом костюме, в каком приходил свататься. Та же шляпа и те же сверкающие штиблеты. Но при дневном свете на его пиджаке там и сям были заметны пятна, их хоть и пытались отчистить уксусом, но пиджак чище не стал. Мать места себе не находила от злости, ведь только теперь до нее дошло, что надеяться на его деньги — дело дохлое. От ее сладкой заискивающей улыбки — ах ты, зятюшка мой, а почему бы и нет, зятюшка мой, все будет, как скажешь, зятюшка мой! — и следа не осталось, и на ее лице, еще не старом, выделялись колючие серые глаза да уголки презрительно сжатых губ. Мать срывала зло на бабах, возившихся на кухне, на мужиках, то и дело прикладывавшихся к паленке, а в полночь, как раз тогда, когда на невесту надевали повойник, обругала двух женщин, стряпавших пироги. Много лет потом они едва здоровались с матерью. На каждой свадьбе — и по сей день так — есть у хозяйки свои любимые и свои гонимые. Обе эти бабы сейчас как два сморщенных яблочка, а обиды забыть не могут.
Через два дня после свадьбы надо было идти рожь косить. Мать разбудила их с первыми петухами. Пока собирались да птицу кормили, муженек-примак подхватил корзинку и, насвистывая, куда-то пошел задами.
Читать дальше
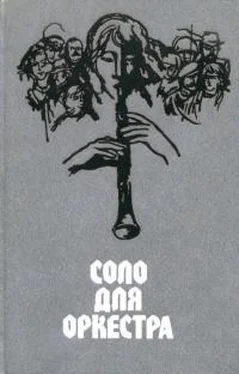
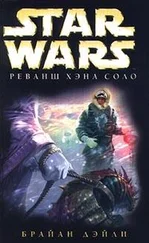
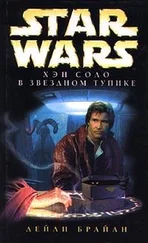



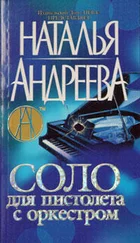
![Дмитрий Селиванов - Соло для попаданца с оркестром [CИ]](/books/404557/dmitrij-selivanov-solo-dlya-popadanca-s-orkestrom-thumb.webp)