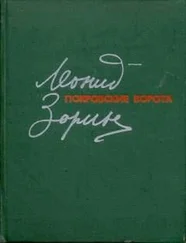– На Фрунзенской набережной, – ответил я.
– Здорово, – сказал он совершенно по-детски.
Но во всем остальном это был уже мужчина. Под нашим солнцем мужественность наступает быстро, а Виктор к тому же был из тех, кто проходит путь из отроков в молодые люди с особой скоростью.
Я никак не мог взять в толк, что девочка, приходившая ко мне на угол, была мамой этого молодца.
– Ну, иди к своим товарищам, – сказала Оля, – они тебя заждались.
Он еще раз пожал мне руку и, как мне показалось, нехотя удалился.
– Говорю тебе, он помешался на отъезде, – усмехнулась Оля.
– Я уже понял.
– И ведь в сущности он ребенок.
– Да?
– У него появилась девочка, он рассказывал мне каждый свой шаг. Решительно всем делится. Сказать тебе честно, я побаиваюсь нынешних девчонок. Какие-то они отчаянные.
– Не знаю, – сказал я, – здесь возможен некоторый оптический обман. Мы лучше детей, отцы были лучше нас, деды лучше отцов, а прадеды были чище и моральней, чем деды. И совершенно ясно, что первобытный человек превосходил нас по всем статьям.
– Все может быть, – она засмеялась.
– Ты отрицаешь прогресс?
– Я не отрицаю, я его побаиваюсь.
– Как нынешних девчонок?
– Вот-вот.
– Ну что же, в конце концов, они его и олицетворяют.
– Трудно сказать, кто лучше, – сказала Оля, – но уж во всяком случае, мы были старомоднее.
– Старомодность еще не целомудрие.
– Ну, – сказала Оля, – не такая уж я была грешница.
– Что и говорить, – кивнул я.
– Я бы очень не хотела, чтобы Виктор уехал, – сказала Оля.
Оркестр заиграл быструю мелодию с такими залихватскими синкопами, что трудно было усидеть на месте. Одна за другой пары выходили на паркетный пятачок перед эстрадой и начинали с искренним вдохновением выкидывать коленца. Мимо нас прошел Виктор с какой-то бледной девицей. Я вопросительно взглянул на Олю, она недоуменно улыбнулась и что-то сказала, но слов ее я не расслышал. Фишер бил в свои тарелки на совесть. Танцевали уже почти все. Много раз я наблюдал эту ресторанную самодеятельность и постепенно пришел к выводу, что в минуты этих плясок какие-то незримые путы слабеют, и человек, привыкший прятать под пиджаком свое существо, свое простодушие, свое пузо, вдруг, точно махнув рукой на все, выставляет себя напоказ. Куда теперь девались напряженность и чопорность, с какими он явился под эти люстры?..
Тут еще есть какая-то полемика с реальностью, думал я, спор с обстоятельствами. «Мы еще поживем, еще поборемся, мы еще молоды». Да, именно так.
– Виктор хорошо танцует, правда? – спросила Оля.
– Очень хорошо, – сказал я и попросил у официантки счет.
Когда мы вышли из зала, музыка еще гремела вслед. В вестибюле у лифтов мы остановились. Лифтерша выжидательно на нас посмотрела.
Оля взглянула на часы.
– Поздно, – вздохнула она.
– Детское время, – сказал я, при этом я подумал о Викторе, который танцевал за стеной.
– Пожалуй, я все-таки двинусь, – сказала Оля.
– Ну что же, – сказал я, – будь здорова.
Я наклонился и поцеловал ей руку. Это получилось излишне торжественно, и я это сразу же понял.
– Звони, – сказал я как можно небрежнее.
– Конечно, – сказала Оля.
Я смотрел ей вслед. Она прошла вестибюль, распахнула двери и вышла на улицу. Я видел, как она перешла на другую сторону и, пройдя несколько шагов, скрылась за углом.
В номере я улегся в постель и стал дочитывать рукопись Ивана Мартыновича. Сначала мне трудно было сосредоточиться, строчки плясали перед глазами, и я перечитывал их по нескольку раз – мысли где-то блуждали. Не сразу, но все же они улеглись.
«В сущности каждый из нас представляет собой вместительную кладовку, набитую доверху всякой утварью. Есть в ней истинные богатства, есть вещи, имеющие свою цену, есть безделки, не стоящие и гроша, есть и то, чего не должно бы быть вовсе, но мы, подобно отчаянным скрягам, храним все – и нужное и ненужное, точно про черный день, про запас. Может не хватить целой жизни, чтоб разобраться во всем, что накоплено, и, стало быть, разобраться в себе самом.
Меж тем для того или иного многодумца наступает однажды рубежный час, когда становится необходимым выбросить за порог всю заваль, все блестящие елочные украшения, все застрявшее барахло и ответить на самый трудный вопрос для натуры самолюбивой и честной (не такое уж частое сочетание) – что важней: научить или научиться?
Вопрос этот сложнее, чем кажется, а ответ определяет судьбу. Кандидат в пророки либо в лидеры стремится научить, потенциальный художник озабочен тем, как выразить себя, искатель истины готов сесть за парту. Надо сказать, что этого последнего часто представляют себе мудрецом в бочке. Неверно. Философы и сами сплошь и рядом претендуют на мессианство, а самовыражаются, как поэты. Искатель рисуется совсем в ином облике – это странник с душою вечного ученика. Теперь представьте себе человека, совершившего такой крутой поворот, как наш друг. Что должен был он чувствовать и какую жизненную позицию мог он избрать после того, как несколько схлынуло то эйфорическое состояние, в котором он находился накануне и во время своих решительных шагов?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу