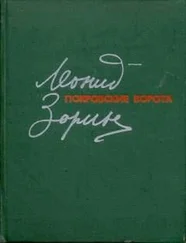– Все же восемнадцатый век был “демократичней”, нежели девятнадцатый. Даже самодержцы жили с подданными тесней, с ними, а не над ними.
Он сказал это скорей себе, чем ей, но она отозвалась:
– По-твоему, Павел Первый лучше Александра Второго? Тот хоть крепостное право отменил.
Он рассмеялся:
– Я не говорю – лучше. Я говорю – проще.
Она пожала плечами:
– На простоте далеко не уедешь. Нет, ты не смейся. Смеяться тоже просто. Я что хочу сказать? Они, цари, неспроста менялись.
Все еще улыбаясь, он успокоил ее:
– Я и не думаю смеяться. Ты хочешь сказать, что они совершенствовали этикет? Согласен. Меня заинтересовало иное, большая цивилизованность сочеталась с еще большим торжеством иерархического принципа. Это специфично для истории государства Российского.
Она сказала уклончиво:
– Все хороши.
– Разумеется, – согласился он. – Куда ни глянь, в строительстве социальной пирамиды общество, как правило, проявляло неутомимость. Даже вдохновение. Какая-то физиологическая потребность верноподданничества. – Он покачал головой. – Ведь напридумывали же слов! “Ваше величество, высочество, превосходительство”. И самые блестящие умы, исполины духа, и те включались в эту игру.
Она резонно возразила:
– А куда ж им деваться?
Он вздохнул:
– Само собой, живучи в определенном социуме, соблюдаешь все его правила. А все-таки как подумаешь об этих грязных монархах, которые тыкали старым людям, а те зависели от их настроения, от верности их жен, от их кишок, – ужасная тоска нападает. И стыд, точно все это происходит с тобой. Знаешь, это как в театре – плохой актер играет плохую пьесу, а ты краснеешь и прячешь глаза.
Помолчав, она сказала:
– Коли люди все это придумали, значит, им это было нужно.
Он буркнул:
– Или вбили себе в голову, что им это нужно.
Они замолчали. Он был недоволен собой. Он чувствовал ее неуступчивость, неясное сопротивление и понимал, что оно правомерно. В этом разговоре историку не хватало историзма, и она могла бы в этом его уличить. Проявлялось старое его свойство, с одной стороны, сообщавшее привлекательность его перу, с другой стороны, его самого тревожившее, – власть темперамента, обличительный жар, почти нескрываемая пристрастность, то, что, как мы уже упоминали, он называл жаждой разумности.
Ее критическое настроение ощущалось им все чаще. Слабости она находила и в том, что сам он считал своей главной силой – в умении вызвать личные отношения с мумиями и тенями, перенестись в их пору и словно бы оживить их.
Как-то во время прогулки они остановились у одного из старых домов; вечерело, все вокруг становилось мягче, призрачней и, казалось, вместе с обветшавшими стенами окрашивалось в сумеречный цвет. Он держал ее крупную ладонь в своей и, задумчиво улыбаясь собственным мыслям, негромко говорил ей:
– Странное это чувство – идти по заглохшим судьбам, по завершенным биографиям. Представь себе некую страничку из дневника, описание вечера – у этого человека собрались друзья. Теперь этот вечер – одна из дат, не больше. Мы и вспоминаем о нем, чтоб установить тот или иной факт: такой-то присутствовал, такой-то сообщил о важном событии, упомянули о третьем лице, отбывшем накануне, и тем помогли определить его маршрут. Между тем этот вечер был куском живой жизни. К нему готовились, пекли пироги, в кухне вкусно пахло, бегали озабоченные женщины. В восемь или в девять дом стал наполняться, хлопали двери, звучали голоса, в прихожей снимали шубы. Потом усаживались за стол, звенели рюмки. Было оживление, шутки, взрывался смех, была игра крови. И перед всеми, кто сидел в этой комнате под зажженной люстрой, было будущее. Люди были симпатичны друг другу, они умели веселиться. Потом начинали прощаться, расходились, вот ушел и последний гость. И, прежде чем лечь спать, хозяева еще долго обменивались мнениями, и хозяин признался, что его беспокоит Владимир, он плохо выглядит, совсем сдал. Между тем Владимиру предстояло прожить еще лет двадцать, а срок хозяина уже истекал – меньше года оставалось до черного дня.
…Так он фантазировал и, как всегда в подобные минуты, ощущал внутренний подъем и ту счастливую легкость, которая предвещала удачу. Порою ему казалось, что все, что он говорил, и в самом деле происходило именно так, казалось, что он разбирает произнесенные слова. Помнится, однажды, с испугавшей его отчетливостью, он увидел вдруг сумрачный петербургский день, темнеющую улицу и две странно знакомые фигуры. И внезапно обозначилось искаженное обидой лицо Каховского, и он услышал, как звонок его срывающийся голос, услышал обращенные к Рылееву слова, слова недобрые, гневные, обожженные горечью, темным предчувствием, нищетой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу