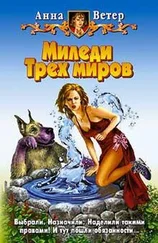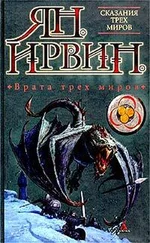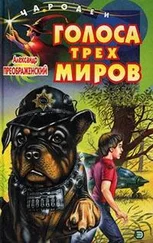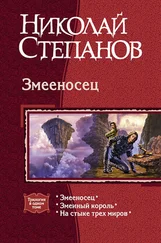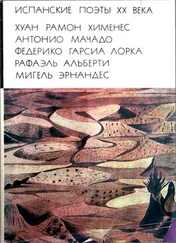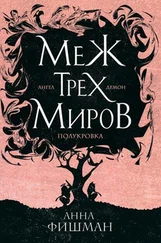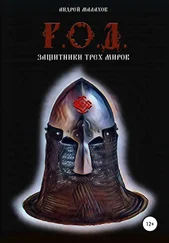Мигель де Сервантес Сааведра, солдат, однорукий ветеран, алжирский пленник, сборщик податей, томится в севильской тюрьме. Недалеко от «толкучки», где стоит его тюрьма (которую он поминал в «Назидательных новеллах»), на другой улице, куда благородней видом, на улице Фонтанов, напротив университета — дом дона Хуана де Аргихо, дворянина на итальянский манер, расточителя художественных сокровищ, добытых на средства супруги, а в его доме — литературный салон и случайный гость Лопе де Вега. Сплетничают о литературе, честят Сервантеса и Лопе говорит, что «Дон Кихот» гроша не стоит, что он пошл и скучен. И что он, Лопе, научит Сервантеса, как надо писать подобного рода безделицы…
Сервантес спит, одетый в лохмотья, мучимый голодом или холодом, а скорей всего — тем и другим. Наверно, болят все кости, и уж конечно болит душа. И ему снится, что он начинает новое Романсеро, подобное Всеобщему, в духе «Селестины» и «Песни о Сиде», то есть в реалистической манере — «божественной, если бы не была такой человеческой», как выразился он об одной знаменитой трагикомедии. Сервантес во сне кивает головой, и восьмисложный белый стих, которым начинается «Дон Кихот», течет дальше и дальше. Уже написано:
В некоем селе ламанчском,
чье названье не припомню,
жил не так давно идальго,
из таких, чье достоянье —
славное копье, старинный
щит, худая лошаденка
и голодная борзая…
В самом истоке «Дон Кихот» — «клокотанье чистой влаги под зеленою сосною», как сказал Антонио Мачадо о Гвадалквивире, глядя на его истоки в горах Касорлы. Чем не родник это начало «Дон Кихота», рожденное, чтобы напоить реку — и какую реку! — которая течет, почти не касаясь земли, воздушным руслом, и впадает в великое море прозы.
Да, таким хотел стать, таким стал и таким остается «Дон Кихот» — Романсеро, что началось стихами, но не вместилось в них и разлилось прозой сказителя, простой и ровной, как Ла Манча, которая была когда-то дном моря, а стала морем воздуха. В него, как в море, текут, не мелея, все реки испанской речи, и в ней рождаются испанские мифы, реальные, как сон наяву.
Сервантес — наш Гомер, но и наше море, волны, говорливые, как сирены, испанский говор, немолчный, как море, которое говорит самому себе и всегда о себе и тоже меняет речь, как меняют ее книги и говорящие губы. Когда-нибудь, когда испанская речь превратится, быть может, в иную и потребует перевода, подобно латыни, придется перелагать ее, как поэты перелагают язык моря, такой внятный и неуловимый. Сервантес вобрал в себя все анонимные испанские реки, всех поэтов, унесенных рекой памяти. Он перешагнул пасторальные века барокко, когда Романсеро смолкло для испанских грамотеев, как перешагнул их и сам народ, и предстал перед нами тем, чем и был — половодьем испанской речи, полуденным морем, у которого нет берегов, но которое и без них очерчено и замкнуто.
Священное наше море,
святое море легенд, —
эти строки Гонгоры, которого осмеянный Сервантес вознес так высоко в своем «Путешествии на Парнас», кажутся сказанными о «Дон Кихоте».
И когда же, как не сегодня, 23 апреля, в этот день и, быть может, в этот же час, ставший концом временной и началом подлинной жизни Сервантеса, должны мы обратиться к нему с молчаливой любовью, как с побережья обращаются к морю? С пуэрториканского побережья, этой заморской Испании, куда он хотел и мог бы дотянуться, которую презрительно называли «глушью» слепые и глухие испанцы, те, к кому он с такой тоской взывал. Эрман Арсиньегас говорил, что «Дон Кихот» мог бы быть написан в Америке. И, быть может, она чудилась Сервантесу сказочным миражем его осени.
Но судьба Сервантеса такова, что мадридским днем 24 апреля среди немногих, кто пришел на нищенские похороны, был Лопе де Вега.
Когда я вчитываюсь в Джойса (говорю «вчитываюсь», поскольку у меня нет самонадеянной уверенности, что читая и тем более читая с трудом, я полностью понимаю произведения настолько личные и самоценные), его проза кажется мне моей Гвадианой, рекой, чье русло на андалузский манер то возникает, то снова уходит под землю. Понятно, что река течет, она здесь, но мы не уверены в этом, потому что она смыкает веки, закрывает глаза, и мы не видим течения. Время от времени глаза открываются не для того, чтобы видели мы, а для того, чтобы видеть самой. В этом, по-моему, секрет Джеймса Джойса. Джойс, в потоке своей прозы, внутреннем и внешнем, открывает глаза и смотрит, чтобы видеть, а вовсе не затем, чтобы увидели его. И то, чем делятся с нами Джойс и Гвадиана, это отражение неба, нашей воздушной кровли в глазах пространства. Иное, внутреннее, — это не отражение, а потайная суть, и мы ошеломленно видим ее в упор, сквозь тело или сквозь землю.
Читать дальше