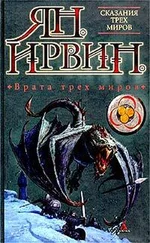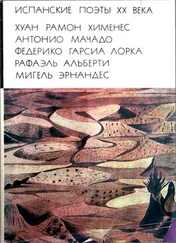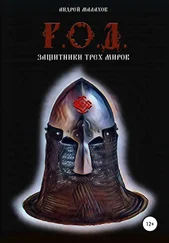Что касается демона — да, он таится под кроватью гениев, но он слишком хищен, прозорлив и деспотичен и не упустит добычу серного пламени, вил и сковороды. Ангел и дуэнде так не тиранят; быть может, это бог и демон, когда, покоренные женщиной или мужчиной, они хотят украдкой побыть с нами, потому что мы им нравимся. И тогда они маскируются под нас, становятся почти такими же. Ни отец небесный, ни князь тьмы мне не по душе, предпочитаю Христа и чёрта, потому что они не так деспотичны. Я дружу с одной девочкой, уверенной, что Бог разъезжает на облаке с черным котенком, которого однажды нашла на улице мертвым, и, по словам матери, его прибрал Бог. При встрече я всегда спрашиваю: «Ну что, видела Бога с черным котенком?» Иногда она кивает, иногда нет. «Сегодня, — сказала она как-то раз, — хорошая погода, и Бог взял его на руки». В другой раз, во время грозы в буреломе туч, зеленых от вечернего солнца, сказала она, что видела, как Бог спускался по радуге, но без котенка, и сказала также, где он его спрятал. Для этой чудесной девочки у Бога определенно есть ангел и дуэнде. Она дружна с поэзией, и будь она к тому же художницей, наверно, стала бы сюрреалисткой.
2
Сказанное и несказа́нное
У поэзии есть две ипостаси — выразимая и невыразимая. Одна телесней, другая духовней. Сказанное означает не то, что дух существенней плоти, но что это две разные сущности и каждая из них воплощает одухотворенность в так называемой телесной форме, образец которой для меня, мужчины, нагая женщина. Для женщины, полагаю, нагой мужчина. Не следует забывать, что музы женского пола, как и то, что Аполлон — мужского.
Греки, великие поэты, влюбленные, и не только платонически, в душу и тело, возвеличенные Платоном, населили мир изваяниями обнаженных, убеждая человечество, что нагота не постыдна и всеобща. Держим же мы животных голыми? И стали бы они добродетельней, если бы их одевали? Поэзия мне представляется нагой женщиной, человеческим воплощением природы. Ведь если в нас есть духовное начало (как ни называй его — душой, электромагнитными волнами или чистым разумом), оно формирует любые складочки, морщинки и тайники нашего тела, как воздух или вода — податливый материк. Лучшая поэтическая форма для меня — та, где дух сохраняется, когда форма утрачена, как вода в стакане, если стекло исчезнет. Тело называют телом даже мертвое, но дух не бывает мертвым. Мертвое бездуховно. Надеюсь, это дает ясное представление о том, что я понимаю под поэзией взаперти и поэзией, распахнутой настежь.
Поэзия, какой я вижу ее и мечтаю увидеть, конечно, содержательна, но это экстракт содержимого и потому питает, не затрудняя пищеварение, в отличие от той словесной снеди, которую готовят, как колбасу, набивая кишку фаршем сомнительного качества, и называют полнозвучной поэзией, поскольку звуки перевешивают смысл. Как будто поэзия не может не пачкать крылья позолотой! Я знаю крайне умелых стихотворцев, которые не мытьем, так катаньем добиваются успехов, а склеротическая критика объявляет их терпеливое усердие классикой и «зрелыми плодами». Плоды плодам рознь, и тыква, например, не персик — меньше сока и больше сходства с опухолью. В поэзии, господа прозекторы, георгинам я предпочитаю гвоздики, а стихи, как и губы, люблю не тыквенные, а вишневые.
Наша западная цивилизация, как известно, впитала в себя восточную и, обновленная Америкой, снова в преображенном виде вернулась на Восток. Это естественный круговорот, путь солнца. Конкретно в Испании замкнутая, герметическая поэзия восходит к эллинским образцам, например, Анакреонту, или латинским, например, Горацию, или же к некоторым образцам Ренессанса, в свою очередь греко-латинского происхождения. Таков Луис де Леон, тонкий перелагатель Горация или, углубляясь в древность, Соломона, и сам в известной мере пересказанный позднейшими поэтами. Все это — я вынужден повториться — именуют «классицизмом» так же привычно, как и превратно. Классика — это живая красота, и живет она потому, что неповторима. На мой взгляд, Луис де Леон классик в «Тихой ночи», а не в «Сельской жизни», иначе говоря — в том, что менее классично, потому что более задушевно.
Классика — это видимая, внешняя форма внутренней. Парфенон не был «классикой» для тех, кто его строил и кто видел это строительство; классикой он стал сегодня как законченное архитектурное воплощение внутренней идеи прекрасного. Но воздвигнутый, например, в честь Линкольна мемориал в подражание Парфенону отнюдь не классика. Потому что классика, напомню, неповторима. И поскольку «классический» предполагает и означает «совершенный», а совершенное может быть самым разным, нельзя сводить классику, такую вольную, к тем или иным канонам. Сегодня равноправно классики Эсхил и Моцарт, Вергилий и Веласкес, Данте и Лукреций, Леонардо и Шекспир, Сан Хуан де ла Крус и У. Б. Йейтс. Для меня, например, классики французской поэзии — Вийон, Бодлер, Малларме. То, что привычно именуют классицизмом, в действительности «неоклассицизм» или «псевдоклассицизм», то есть академизм, короче, — слепок, пустота, мертвечина. Если архивный критик ничуть не сумняшеся объявляет литератора классиком, можно смело предполагать, что речь идет о мумии, вернее — о взаимности двух мумий. Копия Венеры Милосской — не Венера Милосская. Венера Милосская — поистине классика, о чем она не подозревает, потому что она такая земная, такая же земная, как и другие ископаемые скульптуры языческих богинь, извлеченные из земли; говоря «земная», я не имею в виду «приземленная», как те поэты, что наслаждаются плотскими подробностями, переживая их в воображении — порок известный, — и полагают, что создают шедевры.
Читать дальше