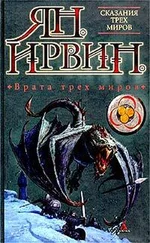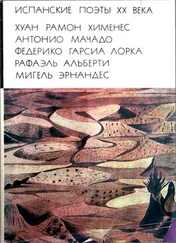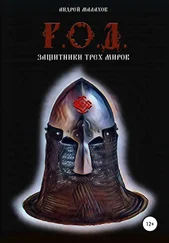Эта гвоздика — весь мир, спрессованный до размеров единственного цветка, то есть Севильи, матери цветов, гвоздики, приколотой на левой груди природы.
Гаснет вечер, Севилья кутается в ночь, и в ее влажных от реки волосах рдеет луна, красная, как гвоздика.
КОЛОКОЛА
Снаружи кажется — они в соборе. Внутри собора они звучат в небе, где золото стало светом (чего больше?), а створки неба — витражами, где свет, сплошь золотой, сплавил все цвета и уносит их куда-то. Там их место, там нет уже ни земли, ни неба, а лишь тайна двоих, память одной и надежда другого, и распахнутая даль цвета памяти и надежды.
…Звук колоколов стал цветом, зримым звоном. Это древний благовест Севильи, зов ее пламенного тела, ее летней поры — словно осени лета, полной весенних угрызений (щемяще красив зеленый отсвет сухого листка!) и покаянно сжигающей себя в огне жарких роз.
Красота этого преображения, как и жизнь, только цвет и свет, цвет земли, пронизанный светом неба. И раскаянье так прекрасно, потому что так мимолетно.
КАПЛЯ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ
Хорошо, милый Ачукарро; — сказал я, — что такое капля? (Капля соляной кислоты; которую он готовил, — проба на что-то — для анализа мочи.)
Один считает, что должна быть единственная капелька и чем меньше, тем лучше; другой — что три капельки из пипетки и есть нормальная капля; третий цедит не считая, лишь слегка придерживая пробку. И в итоге мне кажется, что никто в точности не знает, какой должна быть капля.
Он улыбнулся:
— И вы полагаете, мы, медики, не знаем, что такое капля?
— Но есть ли точная, образцовая, неоспоримая мера для капли?
— Слеза, — ответил он.
ТУМАН И ЗОЛОТО ПАРКА
Вялое и неуверенное солнце без труда пронизывает желтую листву, еще не пожухшую в осеннем оскуденье, еще достаточно крепкую, чтобы держаться — в какой-то странной бесплотности — ровно и плоско, словно крылья засушенных бабочек.
Туманный свет радужными переливами клонит к тихой любви — бог с ними, страстями! — в почти домашнем уюте, которым веет от мокрого асфальта. Устало опадают крылья, вернее — листья на бронзовую дорожку, лунно подсвеченную солнцем трагического сосняка на грудах реквизита в опустелом и тоскливо распахнутом театре природы.
На берегу навеки замершей воды спят лебеди, сиротея на мокрой траве, спрятав чувственную шею под крыло, словно в девственный нежный снег.
ЗАКАТЫ
К этой шеренге железных стульев на краю пустоши, где кончается Мадрид, приходят старики, вдовы, влюбленные парочки, чтобы увидеть заход солнца. Приходят всегда, но сейчас, осенью, вдвойне неудержимо.
Многолюдно, но тихо. Те, кто на ходу шумел и жестикулировал, огибая этот амфитеатр, где уже раздвигается бескрайний занавес, смолкают или переходят на шепот, сбавляя шаг, словно входят в собор, дворец или на кладбище.
Неподвижные лица прикованы к горной гряде, волнистой, как занавеска, в просвете ближних деревьев. Замершие, бледные, ослепленные великим заревом — багряным, сизым, лимонным, золотистым, розовым, бесцветным — ежедневного заката. Порой два блестящих взгляда случайно встречаются и долго вглядываются друг в друга с каким-то грустным узнаванием.
А время идет. Огромная звезда, ясная и одинокая, стеклянно закупоривает растревоженную душу, как бутылку шипучки в соседнем ларьке, и бирюзово загорается в разом оглохшей дали. Лиловое небо тяжко и властно снижается, сжимая, сминая закат, который не кончится никогда, тесня его к волнистому горизонту в черной зелени сосен. Свежеет, из окрестных зарослей уже тянет холодом, и парочки, старики, вдовы, все, кто пришел сюда утолить сердце любовью или печалью, разбредаются медленно, задумчиво, верх, вниз, налево, направо, взволнованные и совсем одинокие, упрочив желанный гнет любви и печали, воскресив умершее и разбередив душу этим ежевечерним обрядом.
БАРОККО И ГРАНИТ
Хосе Ортеге-и-Гассету
Кастильское барокко рождено гранитом. А мадридское родила Гвадаррама. Не думаю, что она отвернется от меня, если миновав фонтан, портал, балкон, я не глядя на нее скажу: «Детеныши Гвадаррамы…»
Грозная мать, химерическая и многоликая, нависшая над Сеговией, Авилой и Мадридом, одной лапой вцепившаяся в Кастилию, а другой — в будущее, сплошь бурая этим мартовским вечером. В легкой опуши снегов, она и впрямь похожа на львицу, не геральдическую, а настоящую, и дремотно ворчит, охраняя своих барочных львят.
А ее приплод, ее гвадаррамыши скитаются по мадридским задворкам, в пыли и моче, гонимые голодом и пинками, униженные и жалкие. Редко когда один из них выходит на холм Ипподрома и застывает, по-кошачьи красивый, на фоне родного неба, огромного и синего, с воющей тоской глядя на материнские сосцы Гвадаррамы. Кто-то из них — счастливчик! — ухожен и любим, а кто-то опошлен любовной прихотью садовника, замостившего пестрой дерюгой квелого цветника прежний самшито-кипарисовый уют.
Читать дальше