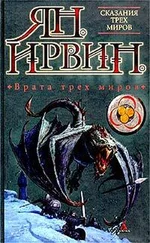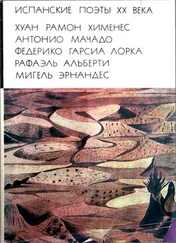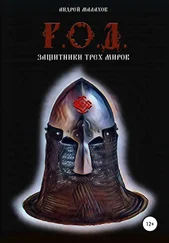Платеро, не знаю, поймешь ли ты, что скажу, но этот ребенок держит на ладони мою душу.
СМЕРКЛОСЬ
В усталой мирной потаенности городских сумерек так волшебно и грустно угадывать далекое, припоминать едва знакомое! Словно болезненные чары держат весь городок в плену долгого печального раздумья.
Пахнет чистым здоровым зерном, которое круглится на токах туманными холмами, мягко желтея среди прохладных звезд. Работники вполголоса поют, самим себе, дремотно и устало. Сидя в подъездах или на пороге, вдовы думают о мертвых, которые покоятся так близко, за дворами. Дети перепархивают из тени в тень, будто с ветки на ветку птицы…
Порой среди лачуг, в последних мутных отсветах на штукатурке, уже буро подкрашенной керосиновыми фонарями, угрюмо возникают землистые фигуры, бесшумные, мучительные, — пришлый нищий, португалец на пути к лесным расчисткам, а может, и вор, — своим темным, недобрым появлением резко вторгаясь в ту задушевность, которой долгие сиреневые сумерки смягчили все привычное… Дети прячутся, и в тревожной тьме подворотен идут шепотливые пересуды о тех, кто «топит из детей жир для королевской дочки, которая в чахотке…»
В НОЧИ
К небу, где багровеют отсветы городского гулянья, тихо плывут по ветру надрывно-тоскливые вальсы. Нелюдимо и немо маячит колокольня, восковая в облаке световых переливов, голубых, фиолетовых, желтых… А вдали, за темными погребками окраин, закатная луна, лимонная и дремотная, одиноко уходит за реку.
Одни деревья и тени деревьев наедине с полями. Хрупкий голос сверчка, потаенный говор воды, нежная сырость, будто льются изморосью звезды. Из тепла своей конюшни грустно зовет Платеро.
Коза проснулась, и долго не унимается слезный бубенчик. Наконец, затих… Далеко, у Большой горы, отзывается еще один ослик. Потом еще один, в Малой долине… Лает пес…
Ночь настолько светла, что в саду по-дневному отчетливы краски цветов. У крайнего дома, в багровой дрожи фонаря, сворачивает за угол одинокий человек. Я?.. Но я здесь. В душистом голубом полумраке, зыбком и золотистом, рожденном луной, сиренью, темнотой и ветром, вслушиваюсь в мое единственное сердце…
Плывет запотелое мягкое небо…
ПЕСНЬ ПОЛЕВОГО СВЕРЧКА
Наши с Платеро ночные дороги сдружили нас с песней сверчка.
Запев ее в сумерках робок, глух и неровен. Песня пробует тон и, вслушиваясь, учится у самой себя, но потихоньку начинает расти, выправляется, словно попадая в лад с пространством и временем. И с первыми звездами в зеленом и прозрачном небе вдруг наливается вся певучей прелестью одинокого бубенца.
Свежо набегает фиолетовый бриз, ночь раскрывает последние свои цветы, и бродит равниной чистая и чудесная душа синих лугов, нераздельно земных и небесных. И песня сверчка ликует, заволакивает поле, это голос самой темноты. Он не сбивается уже, не смолкает. Словно выплескиваясь из себя, каждый звук двоится, дробится в себе подобные, в братство темных кристаллов.
Притихшие, проходят часы. На земле мир, и спит крестьянин, высоко в глубине сна различая небо. Где-то у ограды, среди вьюнков, смотрит завороженно, глаза в глаза, влюбленность. Бобовые поля дают знать о себе мягким ароматом, и весточка пахнет, как в ранней юности, открытой и одинокой. И зеленые от луны колосья, волнуясь, дышат ветром пополуночи — первых, вторых, третьих петухов. Песня сверчка изнемогла от звонкости, заглохла, затерялась…
Вот она! О, пенье сверчка на рассвете, когда Платеро и я, продрогшие, торопимся домой по белым от росы тропинкам! Сонно опускается розовая луна. И песня, уже пьяная от луны, одурманенная звездами, темна, таинственна, самозабвенна. Это час, когда траурные тучи, грустно обведенные сиреневым, вытягивают из моря день, медленно и долго…
ПОСЛЕДНЯЯ ЖАРА
Как печальна вечерняя красота желтого солнца, когда я просыпаюсь под смоковницей!
Сухой бриз, пропыленный цветами, освежает мое потное пробуждение. Большие листья кроткого старого дерева, чутко колеблясь, то затеняют, то убирают тени с моего лица. И словно качают меня в колыбели, от тени к свету, от света к тени.
Там, за стеклянной зыбью воздуха, в безлюдном городке, далекий колокол зовет к вечерне. При звуках его Платеро, укравший у меня ломоть арбуза, замирает над его сладким алым инеем и смотрит на меня, подрагивая огромными глазами, где липко плавает зеленая мушка.
От его усталого взгляда мои глаза вновь устают… Бриз возвращается, как бабочка, которая хотела бы взлететь, но что-то слипаются крылья… слипаются крылья… мои вялые веки, вдруг померкшие…
Читать дальше