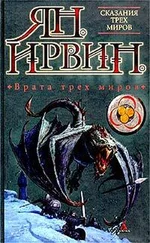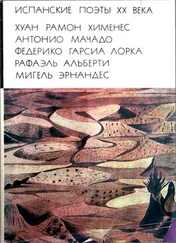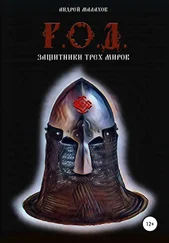ПРИЗРАК
Анилья Ла Мантека, обуреваемая своей сочной, кипучей молодостью, щедрой на внезапные радости, любила наряжаться привидением. Она обертывалась простыней, добавляла муки к молочной свежести лица, удлиняла зубы чесночными дольками и после ужина, когда мы подремывали в гостиной, вдруг возникала на мраморной лестнице, держа зажженный фонарь, притягательная и безмолвная. Выглядело это, как если бы саваном была ее нагота. Да, именно так. То гробовое, что несла она с темных антресолей, наводило жуть, но эта ровная, сплошная белизна странно завораживала…
Не забуду, Платеро, ту сентябрьскую ночь. Гроза уж больше часа билась над городом, как больное сердце, оглушая водой и камнем, до отчаянья упорными вспышками и раскатами. Переполненный водоем заливал двор. Все иные звуки — девятичасовая карета, вечерний колокол, рожок почтальона — давно смолкли. Я, вздрагивая, шел выпить воды и на миг, в зеленой белизне разряда увидал соседский эвкалипт — мы звали его ведьминым деревом, — весь распластанный над черепицей навеса… Жуткий сухой звук, как тень слепящего крика, от которого мы и вправду ослепли, сотряс дом. Когда мы очнулись, каждый оказался не там, где был раньше, и сам по себе, забывший об остальных. Кто жаловался на голову, кто на глаза, кто на сердце… Мало-помалу все вернулось на свои места.
Гроза уходила… Из тяжких, доверху разодранных туч хлынула луна и белым огнем разлилась по затопленному двору. Все вышли оглядеться. По наружной лестнице взад и вперед, бешено лая, носился Лорд. Мы пошли за ним… Совсем уже внизу, Платеро, возле сырого и приторного ночного цветка, бедная Анилья, одетая привидением, лежала мертвая с не погасшим еще фонарем в обугленных молнией пальцах.
ДУРАЧОК
Когда бы ни возвращались мы улицей Сан-Хосе, он привычно сидел у своей двери, на своем стульчике, сидел и смотрел, как другие проходят. Это был один из тех отверженных детей, которым не дано ни дара речи, ни тени обаяния, вечно радостный и никого не радующий ребенок — всё для матери, ничто для остальных…
Однажды, когда бродили по белым улицам черные недобрые ветра, я не увидел его у знакомой двери. Пела птица на одиноком пороге, и я вспомнил Курроса, больше отца, чем поэта, который по смерти сына спрашивал о нем галисийскую бабочку:
Volvoreta d’alinas douradas… [3] Златокрылая бабочка… ( галисийский ).
Теперь, когда занимается весна, я думаю о дурачке, который с улицы Сан-Хосе переселился на небо. И, наверно, сидит на своем стульчике среди нездешних роз, провожая глазами, вновь широко открытыми, золотистые тени блаженных.
ШЕЛУДИВЫЙ ПЕС
Изредка, тощий и томящийся, он через сад прокрадывался к дому. Он жил убегая, давно привыкший к камням и крикам. Собаки и те встречали его оскалом. И снова он уходил, медленно и понуро, вниз по склону в полуденный зной.
В тот вечер он увязался за Дианой. Когда я вышел, какой-то злой порыв толкнул сторожа к ружью. Помешать я не успел. С выстрелом внутри, горемычный пес завертелся волчком в головокружительном вое и вытянулся под акацией.
Платеро смотрел на него не отрываясь, откинув голову. Металась, прячась за нами, перепуганная Диана. Сторож длинно оправдывался перед кем-то, неуверенно бранясь и, наверно, раскаиваясь. Траурным казалось солнце, затемненное мутной дымкой, и той же дымкой, только крохотной, мутился живой еще глаз убитого.
Под ударами морского ветра, раз от разу надрывней, плакали навстречу буре эвкалипты, в душной тишине, распластанной по золотым еще полям, над мертвой собакой.
ПОПУГАЙ
Я и Платеро играли с попугаем в саду моего друга, врача-француза, когда молодая женщина, растрепанная и растерянная, сбежала к нам по косогору. Она поймала меня темным тревожным взглядом и моляще спросила:
— Сеньорито, здесь доктор?
За ней появились, задыхаясь и оглядываясь, замызганные дети и, наконец, несколько мужчин, несших еще одного, обмякшего и воскового. Это был охотник, из тех, что бьют оленей в Доньянском заповеднике. Ружье, жалкое старое ружье, стянутое бечевкой, разлетелось, и заряд угодил ему в руку.
Мой друг бережно склонился, снял с раненого рваное тряпье, накинутое сверху, смыл кровь и стал ощупывать кости и мышцы. Время от времени он оборачивался ко мне:
— Ce n’est rien… [4] Пустяки… ( франц. ).
Вечерело. Со стороны Уэльвы пахло морем, смолой и рыбой. Упруго круглился на розовом закате изумрудный бархат апельсиновой рощи. В сирени, зеленой и сиреневой, красный и зеленый попугай горел любопытством, кося круглыми глазками.
Читать дальше