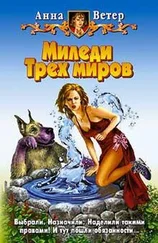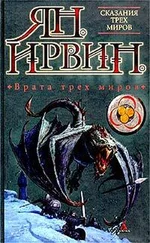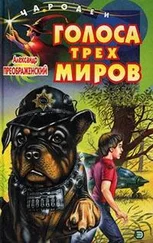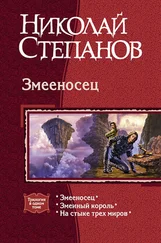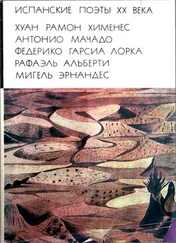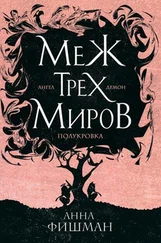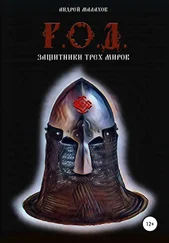Сейчас в спасительном доме, островке, квадратно огороженном белыми стенами, одинаково чужими, радио как громом поразило неожиданным известием. Сегодня умер Джойс — в Цюрихе, где он писал своего «Улисса» в годы той войны и где, несомненно, хотел укрыться от этой. Я хотел бы увидеть Джойса мертвым, увидеть, как отдыхает, наконец, эта голова, ссохшаяся, но не ставшая меньше, в окончательной и полной сферичности, как мое сердце в часы труда, увидеть его глаза, растраченные работой без остатка, как и должны глаза и сердце встречать смерть, глаза растраченные и наконец утраченные после стольких оптических ухищрений.
Время — это путь нашего сознания в вечность. Какой невыносимой была бы вечность, длись она дольше минуты, двух, трех…
Время и я — враги.
Знаю, что Спиноза шлифовал линзы, и наверно еще и поэтому я ощущал его всегда, его и его мысль, как кристалл. Кристалл внешне и внутренне, едва приметная укромная твердыня. Алмаз, не бриллиант. Алмаз глубже, таинственней, тоньше и метафизичней бриллианта. Бриллиант криклив, это блеск, поза, ритуал, секта, католицизм. Алмаз — тишина, одиночество, родник, тайно впитавший небо и драгоценно сберегший его в себе, как в душе. Это музыка, кристаллизованная мелодия, чистый дух. Алмаз — это Спиноза.
Когда доктор Симарро с утомительным восторгом читал мне отрывки из «Этики» (в те глубокие ночи, у огня, бросавшего красноватые блики на корешки бесчисленных книг и на портрет Спинозы, написанный по просьбе доктора Сорольей), я видел, как возникает из тьмы бледное лицо и слова доброго мага сливаются в одну неслыханную мелодию, музыку сфер, созданных мыслью, красотой и правдой. Я потом видел во сне эти созвездия первозданных мыслей. Так не было ни с Кантом, ни с Ницше, ни с кем.
Годами позже я снова читал «Этику» с Рамоном Бастеррой в первой Студенческой Резиденции. Бастерра указывал на пробелы в тексте, ставил цель и целился терминами Спинозы, которые трактовал как лучи, стрелы, искры, грани. Мне кажется, Бастерра видел скорее бриллиант, обработанный ювелирно и блистательно. Бастерра был католик, церковник, сектант на свой грубый и чувственный лад. Я, как и Бастерра, видел лучи, стрелы, искры и грани, но смотрел иначе — проще, сдержанней и благородней. Короче, естественней.
Смотрю и снова вижу в полутьме скромной комнаты с единственным окном и зеркалом напротив окна, светящийся мыслью, подобно мерцанию стеклышек, которые шлифует, человеческий алмаз, оправленный в железо, а не бездушный бриллиант, в золотой оправе напоказ. И вокруг него мысли, ставшие его жизнью, вольные и нагие, независимо созерцают мир в окнах и зеркалах его души, его глазах.
Ответы на вопросы пуэрториканского журнала
— Довольно уже давно видный член Испанской Академии назвал Вас декадентом как рьяного защитника модного тогда символизма. Согласны ли вы с такой характеристикой? Если да, по-прежнему ли вы состоите в рядах символистов? В противном случае, как бы вы назвали свою собственную поэтическую школу?
— Я никогда не «состоял в рядах» ни символизма, ни плохо понятого модернизма, ни какой-либо иной корпорации. Я символист и модернист внештатный. Модернизм — течение всеобъемлющее, а символизм — одно из его детищ, но я к ним себя не причислял, поскольку не люблю ярлыки. Я представитель поэзии нашего века, который, по мнению критиков, создал школу, а по моему собственному — дал толчок. Я не школьный учитель. Догадываюсь, что критик, на которого вы намекнули, — это досточтимый и не всегда благоразумный буквоед дон Хулио Касарес. Тогда мы работали вместе в издательстве «Кальеха» (я редактором новых публикаций; он, разумеется, старых). Там я издал четыре новых книги — полного «Платеро», «Духовные сонеты», «Лето» и «Дневник молодожена». Три последних потом не раз переиздавались, а общий тираж «Платеро» превысил миллион экземпляров. Очевидно, моему «упадку» хватило энергии надолго, по крайней мере до сегодняшнего дня. Тому уже тридцать шесть лет.
Возвращаясь к модернизму, замечу, что все видные поэты, начиная с конца прошлого века до наших дней, были и остаются модернистами. Во Франции после Бодлера — символисты Рембо, Верлен, Малларме, позже — Клодель, Валери, Жамм; в Германии и Австрии — Рильке, Георге, Гофмансталь; в Швеции — Клаузен; в России — Блок и Маяковский; в Бельгии — Метерлинк, Верхарн и Ван Лерберг; в Англии и Ирландии — Суинберн, Томпсон, Йейтс; в Италии — Унгаретти, Монтале; в Соединенных Штатах — Эдвин Арлингтон Робинсон, Т. С. Элиот. В Испании и Латинской Америке хорошо известно, кто есть кто. А такая знаменитость, как Элиот, благородно объявляет себя искусным продолжателем символистов, в частности, Корбьера и Лафорга. В нашем веке модернисты все, кто не ретроград, потому что модернизм сочетает лучшие традиции каждой страны с новейшими преобразованиями в ней и в мире, он разносторонен: религиозный, философский, литературный… Не было ли первоначалом теологическое побуждение бракосочетать католические догмы и научные факты? Есть модернисты от идеологии и модернисты от эстетики. И все бесчисленные «измы» нашего времени — модернистские, потому что все они для натиска новых форм ищут прочную традиционную опору. Если не костенеет язык, почему должна костенеть поэзия? Все возникшее вслед за романтизмом как реакция на него (символизм, импрессионизм, натурализм, экспрессионизм, креасьонизм, ультраизм, кубизм, экзистенциализм, магический реализм и т. д.) — все множится и дробится внутри модернизма, который я называю новым Ренессансом. Идеолог Унамуно и вокалист Дарио одинаково модернисты. Словом «декадент» клеймили многих парнасцев и символистов, среди позднейших, например, Д’Аннунцио и Георге; среди предшественников — Бодлера, Рембо, Лафорга, за их обостренную чувствительность. Но обостренная чувствительность — скорее избыток, чем недостаток. В любом случае, зачем искать издержки, а не достижения у тех же декадентов? Вечно иронизируют насчет принцесс Рубена Дарио. Попробуйте сосчитать их в его стихах — ручаюсь, что больше двух-трех не найдете.
Читать дальше