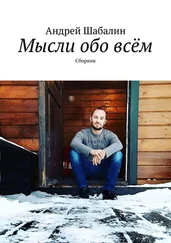Постом все делятся постовым опытом. И всегда и везде опыт этот сводится к тому — кто и что съел. Оно и правильно, духовные борения они не для публики, а про рецепт каши и постных пельмешков все рады поговорить. Это святое.
Место действия — трапезная. За столом после протяженно-сложенной службы сидят три мирские женщины и монахиня.
За другим столом трапезничает батюшка.
Монахиня:
— Помню, тринадцать лет назад, когда я только начинала поститься, взяла я на себя самовольный подвиг… (Женщины откладывают ложки, внимательно слушают, пытаются записывать.) А подвиг был такой — вместо двух ложек сахара я стала класть в чай одну! (Женщины замирают.)
Женщины (хором):
— И что?!
Монахиня:
— Чувствую — мозги начинают отказывать! Мозги-то сахаром питаются! (Смотрит снисходительно на женщин.) И я батюшке-духовнику покаялась в самовольстве. А мозги к тому времени уже почти совсем отказали, еле живу.
Женщины:
— И что?!
Монахиня:
— Отругал меня духовник за чрезмерные подвиги и благословил три ложки сахара в чай на весь пост.
Женщины:
— А с мозгами-то как? Наладилось?
Батюшка из-за соседнего стола смотрит задумчиво на честную компанию.
Батюшка:
— Последствия для мозга оказались необратимыми!
Трапеза продолжается в гробовом молчании.
C утра, как водится, еду на службу. Сонная, осенняя, недовольная собой и миром. Троллейбус уже заполнен воскресными деловыми людьми, но места ещё есть. Пристраиваюсь у окна. Напротив меня спит совершенно потрясающий дядька. Красавец — седые власы. Волос на голове столько, что хоть донорствуй, благороднейшая серебристая седина, и пострижен, как артист, волосок к волоску. Росту огромного, размер ноги, как у Давида в Пушкинском. И в этих грандиозных ногах сидит у него собачка-ангел. Беленькая, пострижена в бархатный шарик, чистенькая до невозможности. Сидит и смотрит на меня глазами старца, который всё-всё про тебя знает.
Возле меня освобождается место и его тут же занимает весёлая бабуся. У неё с собой целый ворох пакетов и пакетиков, невозможно шуршащих. Из одного она достаёт стеклянную полулитровую банку, открывает её, достаёт оттуда разделанную селёдку и начинает эту селедку есть. С огромным удовольствием. Поворачивается ко мне, протягивает кусок.
— Хочешь?
— Нет, спасибо.
— Зря, вкусная селёдка.
Дядька храпит ещё заливистей. Собачка, потеряв ко мне интерес, любуется бабусей. Старушка протягивает селёдку собачке, та с удовольствием угощается.
— Собака-то умнее тебя, — сообщает мне бабушка-гурман.
Едем. Показываются купола, бабушка крестится селедочным троеперстием в сторону храма.
— Отдание сегодня, Рождества Богородицы отдание. Эх, ничего-то вы не знаете.
И продолжает есть селёдку. Я выхожу на своей остановке и иду на службу. Хорошее утро. Весёлое.
Раньше была традиция у верующих, а теперь уже почти совсем сошла на нет, крестить во время зевоты рот, чтоб, значит, бес вовнутрь не пробрался и не съел твою бессмертную душу.
Служится архиерейская литургия. А одного из служащих отцов разобрала такая зевота, что рот просто не закрывается. И он стоит и каждый зевок истово крестит.
Архиерей раз на него посмотрел, второй, на третий не вытерпел, спросил: «Отец Феогност, я никак не пойму, ты его не впускаешь или не выпускаешь?»
С годами лицо моё стало приобретать черты тщательно скрываемых моей роднёй грехопадений. Как-то незаметно Араратом завозвышался нос, Курой раскинулись брови, а «Басма» подворонила волос до нужной кондиции так, что и в Грузии, и в Армении никто ко мне по-русски не обращался. Жизнь — боль, да.
Раньше я вовсю пользовалась интернациональными маршрутками, где спокойно соседствуют таджик и белорус, студент и служащий, и друг степей калмык. После неожиданной реформации в системе наземного транспорта вся эта демократичная куча из человеков переселилась в последний оплот и бастион истинного московско-русачьего бомонда — троллейбус, которым до великого изгнания маршруток из Москвы и области пользовались в основном пенсионеры и школьники, вооруженные «социальной картой москвича».
Вы знаете, что такое московский пенсионер? О! Это человек с большой буквы «П», с волшебной карточкой, свидетельствующей о его принадлежности к высшей касте. Московский пенсионер бодр, вооружен телегой в специально прорубленных заусеницах для вырывания клочков мяса из икр и нитей из колгот зазевавшихся гражданочек и жиночек. Но главное отличие московского пенсионера в том, что он непримиримый шовинист. Ему всё равно, кто тут сидит с носом-Арарат или глазами Чингисхана. Профессор ли университета, работник метрополитена, врач. Этот чернявый гражданин — чурка понаехавшая, совершенно не заслуживающая ни уважительного отношения, ни внимания, ни, тем более, катания на русской тройке — муниципальном транспорте.
Читать дальше