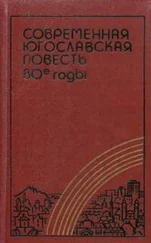Потому-то в нем всегда и таилась странная, сокровенная тоска по Глориете, а какую боль она ему причиняла! Он постоянно слышал ее неожиданные призывы, приглушенные крики: его давний детский грех, отклонение, безумие должны были быть поняты и превратиться в заслугу, найти признание, быть воспеты, чтобы в нем уснуло наконец раненое детство. Увидеть наяву возрожденную, сияющую, благоухающую Глориету в ореоле детских фантазий, а не только в снах и кошмарах, охваченную огненными языками уничтожения и бурными ветрами изгнания! (Он и Ренцо с тех пор отдалялись друг от друга, как две кометы.)
Сырой, мрачный и вместе с тем величественный коридор бесконечной лентой несся рядом с ним, монументально неподвижным. Он скользил по желатину расплавленного мозга, и вдруг в темной нише промелькнул полоумный, косоглазый и смешной Ренцо, тоже неподвижный и блестящий, точно кукла из папье-маше, верным псом в позе напряженной покорности. Он, вероятно, ждет, укрывшись в темной нише, что вот-вот его позовут, обманут и вовлекут в авантюру. Он сладостно переживал любое самоуничижение и смерть ради Глориеты и ее величия. В этом состояло счастье и несчастье маленького Ренцо — в покорности, в привычке ко всякой неожиданности, к любому проявлению добра и зла.
Сияющая Глориета поднималась из тумана, подобно неподвижному истукану, разрывая покровы покоя, ускоряя биение сердца.
В глубине старинного запущенного парка, под роскошной уединенной пинией, точно под гигантским балдахином, притаилась Глориета, как волшебный гриб (тайные посевы лесных дев?). Парк совсем одряхлел — всклокоченный, с обгорелыми ребрами, оборванный, точно седой, мрачный пустынник, чей некогда блестящий фрак теперь разодран в клочья и покрыт пылью. Парк разрушен долгим запустением, смертельно изранен в схватках с непобедимым временем; его брали под защиту и укрывали тайные, верные и ловкие сообщники: черные дупла, оживающие тени, ковры сосновых игл, сломанные ветки, гниющие листья, светящиеся краски воздуха; по жилам земной коры переливались животворные соки, в небо рвались объятия диких переплетений, беспорядочная молодая поросль, голые сучья и причудливо спутанные мощные колючие травы стелились по земле. Некогда подрезанные густые кустарники застыли, точно оледенелые водопады, буйные кроны деревьев, подстриженные когда-то так, что напоминали гигантские силуэты греческих и римских богов, теперь являли жалкое зрелище — стояли понурившись, как печальные вербы, как огромные погасшие свечи, с которых, словно окутывая их, сползали ручейки воска. Они покорялись запустению, забвению, перерождались, будто ненужный хлам столетней давности где-то на чердаке, затянутый паутиной. Прадедовский парк походил на заброшенное кладбище угасшей славы, с расплывшимися контурами, с глубокими тенями и забитыми травой крестами, и единственный источник жизни, единственное бьющееся сердце во всем этом неощутимом кровотоке среди умирающих растений была — Глориета.
Глориета! Начало его трепетных, искренних, чистых убеждений, негасимый светильник исконной и вечно молодой родовой мощи! И теперь она сияла в его памяти, как костер в мрачной пещере, в самой утробе истории.
На месте сожженной Глориеты вскоре был воздвигнут бронзовый памятник ему и Ренцо, памятник «юности, ранней и горькой» («Fanciullezza amara e precoce»), а не «мальчишкам, испорченным и грязным» («fanciullaglia corrotta, contagiosa»), как называла их банда Мартино.
Зачарованный, уединенный, таинственный уголок заброшенного парка точно скорлупка на высокой скале. В самом деле, он тогда чувствовал себя и адмиралом и капитаном артиллерии. Ренцо предпочитал сушу, он не умел плавать и никогда не претендовал на то, чтобы быть вождем. Его не вела мечта, зовущая к полету, к возвышению, она не призывала его сделаться адмиралом стального военного флота, когда среди молний в небесах и на море, оседлав стремительные века, на черной заре, под черными облаками рождаются божьи избранники. Она не сокрушала в неудержимом полете звезд, гидр и драконов опасные бурлящие толпы черни, не попирала низкие творения.
Решетки и колышки изящного портика Глориеты, соединенные крепкими звеньями, Ренцо окрасил черной и серой краской, а медную с куполами крышу и кружевной карниз — зеленой. Тем самым они надеялись скрыть ее от недостойных нечистых взоров. Они считали, что Глориета неприступна. Ее подножие уходило в заросли крапивы, укропа, бузины и папоротника, выбивавшиеся из черной земли, а из каждого узора решетки свисали розы с шипами, они струились, точно клубки змей, обрамляли всю южную сторону беседки. Говорили, что рядом, в изрезанных громадах скал, водились змеи. Их-то они и считали своими защитницами, весталками, хранительницами тайн детского воображения. И все-таки здесь мальчиков никогда не оставляло чувство проникавшего до костей страха. Они были вынуждены с ним настойчиво бороться и его истреблять. Придумали игру: «единицу страха». Уговорились, что будут наказывать себя «по собственному разумению и выбору». Ренцо всегда признавался во всем и бывал бит волосяной плеткой-девятихвосткой. Сквозь загорелые ребрышки у него, казалось, высвечивались бледно-розовые внутренности, а он желал, чтобы за каждую «единицу страха» его били «до крови». Но обычно удары были сдержанные, несильные, кроме одного случая, в страстную пятницу, когда Ренцо бредил, сходил с ума по воплощению Спасителя. После бичевания он носил Ренцо кофе с молоком и большой калач из топленого сыра и меда, он прятал все в обложку, словно это была книга, и тайком выносил из большого отцовского дома. Сам он никогда не позволял Ренцо бить его, это было бы недостойно вождя, хотя и он не раз наливался «единицами страха», змеиным чувством, о котором они ничего не знали вплоть до того рокового утра, когда Мартино разрушил и сжег Глориету. Но возможно, и это произошло в тревожном, обрывочном сне.
Читать дальше