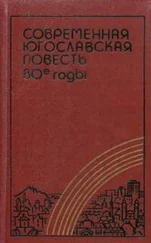Потом мы выходим на прогулку. Идем по тропинке вдоль берега, здесь он обычно гуляет с главным инженером. Его трость в правой руке отбивает такт: раз, два — тук, раз, два — тук.
А почему бы не провести один из международных семинаров по борьбе с туберкулезом именно в Опатии? Эта идея целиком захватила его, и он готов отдать ей свои последние силы.
А ты справишься?
Не волнуйся, все будет хорошо! Мариан мне поможет, она приедет сюда на неделю раньше.
Я возражаю, однако недостаточно решительно. Может быть, он прав! Для человека нет ничего хуже, чем ощущение своей ненужности обществу. Это ранит даже молодых, абсолютно здоровых. И они порой готовы пойти на что угодно, только бы их заметили, обратили на них внимание.
Тогда он впервые сказал, что принимает первитин, прелюдин, сама не знаю, что еще!
Владо молчит. Широко раскрытыми глазами смотрит мимо меня куда-то во тьму.
Знаешь, на Цейлоне нет большего мученика, чем одинокий слон. Слон, которого отвергло стадо. Ты понимаешь?
* * *
Снова суббота. Конец рабочей недели. Раньше, когда он был дома, он всегда придумывал, как провести свободный день.
Ну-ка поглядим, сегодня, кажется, суббота?
Завтра будет суббота, сегодня пятница.
Ах, завтра! Значит, есть время позвонить в Загреб и пригласить Франьо и Фанику, не возражаешь?
И отвезти их завтра в Шкофью Локу в музей, если они еще там не были.
Были.
Да? Ну, что ж. Тогда отвезем их на Любель. Там они наверняка никогда не бывали.
А потом по канатной дороге на Зеленицу, и…
И гигантский слалом!
Ничего прекраснее быть не может!
И когда мы на следующий день повезли друзей на Любель, он не забыл о Зеленице.
Съездим? — предложил он не без колебания, однако с очевидным желанием испытать свои силы.
Франьо и Фаника, оба врачи, испугались.
Не слишком разумно! — возразили они, смущенно улыбаясь. И поглядели на меня, дескать, что ж ты-то молчишь?
Я направилась к канатной дороге.
Фаника подбежала ко мне.
Зачем ты это делаешь, зашептала она, это может ему повредить! Да ему и не забраться на сиденье!
А мы на мгновенье остановим кресло, пособим ему, давай лучше подумаем, как побыстрее все сделать!
И вот мы поднимаемся кверху.
Горы уменьшаются, отступают куда-то вниз, зато целиком раскрывается небо, оно становится огромным и беспредельным, легкие наполняет весенний, холодный воздух, и душа замирает перед безмолвным величием природы.
Я оборачиваюсь, машу ему, что-то кричу.
Ого-го-го! — откликается он. И смеется. Смеется во весь рот и по-мальчишечьи болтает ногами.
Неужели все это было в апреле прошлого года?
Когда мы достигли вершины, пошел снег. Мягкий и обильный, и скоро мы стали похожи на снежных баб.
Потом внизу мы весело смеялись, стряхивая снег с пальто перед входом в маленькое кафе.
Неужели это было всего десять месяцев назад? И сейчас он лежит неподвижно, оцепенело?
Сейчас ему никто не нужен. Он скован сном.
Каждые два часа приходит сестра, чтобы перевернуть его, оправить постель, помассировать спину.
По-прежнему стою в затемненной комнате и вслушиваюсь в его равномерное дыхание. Мне жутко. Мне вдруг показалось, что его уже нет, хотя он еще дышит.
Нет, нет, я не поддамся этому чувству. Потому что он жив в своих письмах и записях.
1959:
Я проснулся в горах северной Греции, утопающих в солнечном свете! Леса в теплых осенних красках. Сверху — синее небо, на котором пасутся белые кудрявые овечки.
Поезд стремительно движется к Афинам.
В Афинах я искал Мака. И мне трудно сказать, нашел я его тогда или нет. Потому что настоящего Мака, того, с которым мы познакомились в Женеве и которого я полюбил, больше не было. Теперь это старик, выброшенный жизнью на свалку. Измученный, отупевший.
Я совсем забыла о Маке! Его история совершенно выветрилась у меня из памяти, а ведь когда Мака отстранили от работы во Всемирной Организации Здравоохранения, я была очень огорчена. Его погубили сплетнями.
Они работали вместе, и Мак совсем не казался старым, хотя возраст у него был почтенный. Работа шла успешно, и в Маке организация очень нуждалась.
Интриги начались, когда назначили нового руководителя секции. Мака постепенно оттеснили на задний план, а потом и вовсе стали обходить. И уже не нужны были его знания, его богатый опыт, его рекомендации, его острый ум. Он был обречен.
Во время прощального ужина в Женеве он сидел за столом на почетном месте, но глаза у него были печальные.
Читать дальше