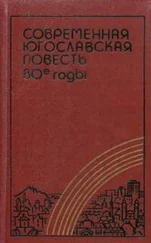А ему хотелось остановиться и удовлетворить свое любопытство: если они не объяснят, что их вдруг обуяло, тогда он сам осведомится у них, по какому праву они вторгаются в его жизнь, или, точнее, в его смерть.
Теперь, выходит, мы бежали из самого что ни на есть обыкновенного любопытства. Мы рассуждали так: если у него есть право без всякой причины убегать от нас, тогда и у нас есть право таким же образом его догонять; если он своим странным поведением, не чинясь, возбуждает наше любопытство, тогда и мы, не чинясь, можем позволить себе это любопытство удовлетворить. Поэтому мы продолжали упорно следовать за ним по широкому примятому следу в шуршащей темно-желтой траве, которая, местами достигая наших плеч, брызгала нам в лица прозрачными и ароматными капельками утренней росы. Но он, словно почувствовав, что мы так просто не откажемся от своего намерения его догнать, медленно остановился и повернулся к нам лицом. Скорее удивившись, чем обрадовавшись этому, мы некоторое время еще продолжали бежать изо всех сил.
Он стоял, поджидая их. Прерывисто дышал, и пот выступал у него на лице, пожелтевшем от налипшей цветочной пыльцы. Он не испытывал волнения, и глядя, как они приближаются к нему по высокой траве, широко размахивал руками, не думая о том, что могло произойти в следующее мгновение.
Теперь мы уже могли видеть, как он левой рукой сдвинул на затылок шляпу, открывая высокий, блестящий от пота лоб, а потом скрестил руки на груди как человек, готовый лицом к лицу встретить все, что его ожидает. Бедняга! Ведь это были только Яков и я. И мы не желали ему зла. Мы хотели только спросить, что с ним, не случилось ли с ним беды и не можем ли мы быть ему полезны. Если же наша помощь окажется ненужной, пускай себе идет на все четыре стороны. И чтобы показать ему это, мы остановились метрах в тридцати от него, дабы он убедился, насколько мы оба, при всем своем вполне оправданном любопытстве, учтивы и ненавязчивы.
А он смотрел на них, совсем не выделяя их, точно они были частью пейзажа, на котором отдыхал его взгляд.
Однако мы чувствовали, что нужно немедленно к нему подойти, прежде чем это мгновение, полное всепоглощающей тишины, превратится во что-то мучительное и неестественное. Но его отсутствующий и словно слепой взгляд загипнотизировал нас, и мы не двигались с места.
А он, всматриваясь в их огрубелые и невыразительные лица, пытался понять, что их удерживает на месте. Только что они выбивались из сил, стараясь его догнать, и теперь — он не мог поверить — из какой-то щепетильности не решались к нему приблизиться, равно как не исключал он и возможность того, что они, такие безбоязненные на вид, вооруженные охотничьими ружьями, в силу осторожности или страха опасались преодолеть эти двадцать шагов, их разделявших.
Если б мы могли обнаружить у него на лице любопытство, страх, радость или боль — наверное, нам было бы менее неловко приблизиться. Однако лицо его походило на оледенелую, белую маску, за которой не ощущалось ничего, кроме пустоты: ни единой мысли, чтоб оживить его, ни единого чувства, чтоб вернуть ему утраченную краску. Он не двигался и ничем не показывал, что вообще намеревается это сделать.
Потом, кто знает каким органом, он почувствовал, что между ним и этими людьми существует некая странная и, возможно, нерасторжимая связь. Он не знал, что бы это могло быть, и, очевидно, поэтому в чистом небе, точно в бескрайнем зеркале, долго стремился вызвать некий далекий и неяркий проблеск воспоминаний, которые помогли бы ему если не понять, то хотя бы уловить смысл этой возможной связи. И взгляд его, потерявшись в прозрачной вышине августовского полудня, обнаружил одну-единственную птицу, слишком реальную для того, чтобы считать ее предвестником чего-то.
Вдруг мы заметили, что руки у него повисли вдоль тела, а взгляд, только что блуждавший вдали, снова обратился к нам. В этом взгляде мы могли теперь различить дерзость и насмешку, а может быть, даже и презрение, которого мы не заслуживали. «Смотри-ка, он молится, — шепнул Яков. — Ведет себя так, будто нас здесь нет, будто нас вовсе нет!» — «Наоборот, — сказал я, — он бросает нам вызов: пытается нас оскорбить или высмеять!»
Ему показалось, что лица у них стали коварными и хитрыми. Поэтому, видимо, прежнее его желание убежать от них независимо от их намерений вдруг сменилось чувством отвращения и гадливости ко всему, о чем эти люди — своей ли лукавой повадкой, равномерным и учащенным дыханием и непонятным голодом во взгляде — ему напомнили. По сути дела, они напомнили ему испуганных и опасливых гиен, почувствовавших его гибель. Несколько мгновений он смотрел на них, не зная, как поступить, ибо уже не верил, что от них можно убежать.
Читать дальше