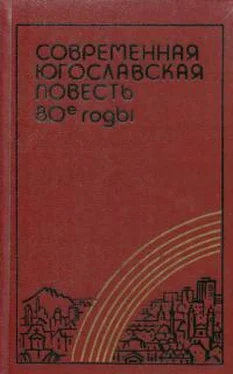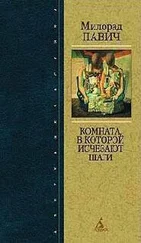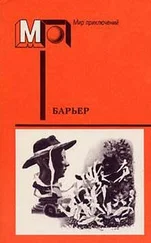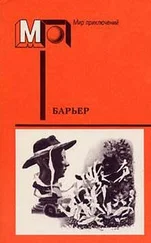Вечером я опять был в канцелярии местного комитета. Я зачитал речь перед Вербичем, Почервинкой и другими зеленоямскими активистами. Они внимательно слушали меня и были, похоже, очень довольны, но к концу чтения почему-то нахмурились, призадумались и стали переглядываться.
— Ничего, — проронил Вербич, — мальчуган для своих лет зрелый.
— По-моему, даже слишком, — подхватил кто-то.
Что-то вроде сомнения, недоверия повисло в воздухе, я не понял, чем оно вызвано.
Первой заговорила Почервинка, трезвая, решительная женщина, которую не выбила из колеи даже подготовка к перезахоронению собственного сына.
— Громче, надо громче, — воскликнула она, смахнув несколько слезинок и окинув взглядом присутствующих. — Там, над могилой, дорогой мой малыш, нужно говорить значительно громче, чтобы все тебя слышали. А я уж отблагодарю тебя. Лично тебя, через газету.
— Зачем это, не нужно.
— Что зачем?
— Персональная благодарность, — сказал я, — да еще в газете.
— А почему нет?
— Мне бы этого не хотелось, — пожал я плечами.
И опять возникло какое-то напряжение. Даже Почервинка, казалось, потерялась, а может, и обиделась.
— Ну, — произнес я, — вы, конечно, можете поблагодарить меня через газету, хотя вообще-то мне ничего такого не надо. — Жаль, я не смог объяснить им, что готов выступить на могиле Винко только из любви к нему, бескорыстно, и что мне не нужны никакие почести.
— Хорошо, — произнес наконец Вербич. — Речь удалась.
— И мне кажется, что все отлично, — добавил кто-то. — В конце концов, скромность — прекрасное качество.
На этом дело с прощальной речью было улажено. После похорон я отыскал Павле Прека. В доме Преков царила глубокая печаль, совсем как на кладбище Святого Креста. Пекарня, где до последнего времени всегда можно было найти краюху хлеба, была закрыта и ожидала, когда в ней разместится местная женская организация: двери лавки завешены жалюзи, спущенными до пола, такого не было за всю войну, черный ход — он вел прямо к печи, от которой даже в самые плохие времена веяло теплом и уютом, — опечатан. Да и фреска на фасаде дома, большая фреска «Сеятеля» Грохара с орнаментом из гвоздик, потускнела. В нижнем этаже с красными полотняными деревенскими занавесками на окнах, где когда-то жила многочисленная зеленоямская семья, обитали теперь только старики Преки и Павле: Лойзе, Янеза, Йоже и их сестер Ольги и Марицы больше здесь не было.
— Англичане и американцы этого не допустят, — сказал Павле, — никогда!
— Уже допускают, — произнес я. — Даже домобранов, которые перебежали к ним, отправляют назад через границу.
— Поверь мне, не допустят, никогда, никогда, горячо убеждал меня Павле. — Ни англичане, ни американцы. Подожди, вот только ситуация немного прояснится.
Он не мог убедить меня, а потому расстроился, потом взял меня дружески за руку:
— Я благодарен тебе, что на ваших окнах нет ни одного флажка, ни одного лозунга «Смерть предателям» и тому подобного…
— Это не моя заслуга, — сказал я честно. — Благодари мою мать и ее бога. Она твердит, что на свете только один царь и одно царство, которое нужно славить.
И опять, как это не раз бывало, я со страхом озирался вокруг. Я боялся — чего уж тут скрывать, — что меня увидят в его обществе. Со дня на день из плена должен был вернуться мой отец, который уже сообщил, что жив и здоров, а тогда — этого я был вправе ожидать — и на наших окнах появятся флажки и лозунги. И мне и Павле нужно было кое с чем примириться.
Еще печальнее было в доме у Вижинтинов, особенно жаль было стариков и их Татьяну, которую бог послал им на склоне лет, что, как известно, случается только в благочестивых семьях. Перестав получать известия от своего любимого Штефана, мастера на все руки, который буквально из ничего умел сладить все, что только не пожелает сердце ребенка: санки, теннисную ракетку, лук, колыбельку, — старики наглухо закрыли двери дома, затворили окна. И с тех пор никого из них мы не видели, даже маленькую Татьяну, даже по воскресеньям, когда все ходят к мессе в церковь святого Семейства. Люди заглядывали в их сад, когда-то такой ухоженный, теперь одичавший, качали головами и говорили, что, похоже, старики совсем перестали есть и вконец забросили хозяйство… Потом из дома стал распространяться какой-то странный запах, постепенно превращавшийся в смрад, который, к счастью, не разносился далеко. Прежде, чем кому-то пришло в голову, что о Штефане-то ничего не известно и, возможно, он скрывается у своих, соседи, по горло сытые вонью, ворвались в дом. Старуха сидела за столом в кухне, перед ней лежал молитвенник, на руках она держала Татьяну, на них никто не обратил внимания, все устремились наверх, на чердак — это оттуда шел запах, и замерли как вкопанные. Штефана там не нашли, зато обнаружили разлагавшееся тело старого Вижинтина, висевшего на веревке.
Читать дальше