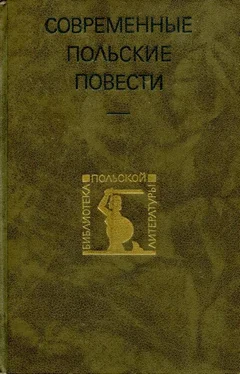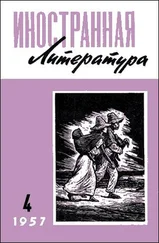Меня утешало уже одно то, что я иду по полям и вот так здороваюсь с чужой работой, и я возвращался домой обновленный. Я был повсюду известен тем, что меня всегда можно было найти в поле. Меня ни ветер не мог отпугнуть, ни жара, хоть бы и земля трескалась, хоть бы все вокруг горело, серпы в руках, земля, хлеба, тень под ивами, песни жаворонков, а пот лил не со лба, а, казалось, с небес. Люди на меня удивлялись, что я в такую жару иду не на речку, а в поля, ведь я на жалованье, а не на клочке земли сижу.
Часто меня подмывало взять у кого-нибудь из рук косу и попробовать, смогу ли я, но я боялся, что с непривычки я только выставлю себя на посмешище. Хотя и работа в поле не была для меня в новинку, в молодые годы я ведь пас корову, ходил помогать отцу сгребать солому, а матери — полоть или, по крайней мере, воду им носил в поле, во всяком случае, во время работ мое место было в поле, где-нибудь на меже в тени боярышника, где мать стелила мне передник. Но с момента моего возвращения из училища все закончилось. И не потому, что отец мне запрещал, просто мне уже не хватало смелости сказать ему, что у меня найдется немного времени, так что я могу пойти ему помочь. Он обычно так собирался на работу в поле, что не оставлял мне никакой надежды, что я могу пойти вместе с ним. Он назначал себе и матери работы только для них двоих, напоминал ей и себе самому, что надо сделать то-то и то-то, холодную воду для себя и для нее, хлеб завернуть в лист хрена, себе косу, ей грабли, как будто для этой работы нужно было только двоих, а для меня уже не было места, даже на меже в тени боярышника.
Я не знал, как напомнить ему о себе, но и это напоминание ни к чему бы не привело.
Он бы даже не буркнул: «Сиди дома», — но сказал бы ласково: «Лучше оставайся дома, сынок. Ты сидишь целые ночи, так хоть днем отдохни. Мы с матерью справимся. В обед возвратимся. Там и для двоих не хватит работы. А когда людей больше, чем работы, тогда только работу обижать».
Так что приходилось ему подчиняться.
Но однажды отец собрался в город на рынок. Солнце уже перевалило за полдень, вечер лег, а он все не возвращался. Может быть, не стоило бы беспокоиться, но мать стала волноваться, терзаться, что в такую горячую пору он тратит время где-то в городе, может, забрел в шинок, потому что и продавать ему было почти что нечего, так что не на рынке он мог задержаться, а в шинке, а мужику как в голову ударит, так он уже себе господин и время тратит, как большие деньги. Правда, может быть, она просто волновалась без него, но не могла выразить этого, только все твердила про зря потраченное время. В ней ведь все чувства раз и навсегда замерли в стыдливости, с самого детства она терзалась то возможной божьей карой, то молитвами, то покаянием, то угрызениями совести, то нищетой, то, наконец, неустанной работой, от темна до темна, так что ничего удивительного, что она могла вменить отцу в неверность зря потраченное время.
Она пророчила, что ночью будет гроза, одна из тех гроз, которые наполняют тревогой людские сердца. Она уже видела молнии, опоясавшие наш дом, видела двор в огне, видела поля, иссеченные градом. Гроза своей силой соответствовала ее страху за отца. Мать притом ссылалась на своих кур, которые с самого утра ходили как одурманенные, не шли на ее громкие «цыпа-цыпа-цыпа», не прикасались к зерну, которое она им в изобилии рассыпала. Они стояли в тени и обмирали, как будто их страшила именно та, матерью предсказанная, гроза. Правда, мать вообще при каждом удобном случае ссылалась на своих кур, как будто это были существа, способные к сверхпредчувствиям, во всяком случае, способные пробудить предчувствия в человеке. Но из ее нетерпения, страшных пророчеств, из обвинений в легкомыслии и проклятий вылезала, как шило из мешка, тоска по отцу.
Я ей не поддакивал. Я сидел осоловелый и размышлял, права ли мать насчет грозы. Я бы так сидел, может быть, до возвращения отца, разве что перебрался бы на крыльцо, потому что в избе становилось душно, если бы матери в конце концов не пришла в голову мысль послать меня в поле.
И я взял грабли и пошел. Я пошел даже с радостью, меня уже тяготила вялость и эти переселения из дома на крыльцо, с крыльца в тень, хотя по-настоящему никакой спешки с этой работой не было, суслоны могли еще постоять.
В поле я разделся до пояса и так, полуголый, ходил по стерне, работая граблями, и работа казалась мне легкой и приятной. Я посвистывал себе под нос, время от времени искал в небе жаворонка, который меня упорно передразнивал, с радостью отвечал людям на их приветствия. Вскоре, однако, грабловище стало жечь ладонь, потом пот начал заливать лицо, течь по спине, под поясом хлюпало. Я взмок и просолился, я все больше вспоминал материны слова о грозе. А когда я наконец оперся о грабли, чтобы отдышаться, мне уже больше не хотелось двигаться. Тогда я и увидел отца. Он или нет? Он был еще далеко, но мог ли я не узнать его, я бы узнал его по одной только тени, по шагам, по своему предчувствию.
Читать дальше