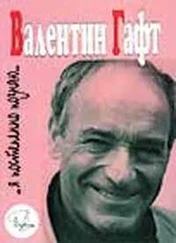Целыми днями я слонялся по улице, иногда по инерции заходил к Стелле, а когда становилось совсем невмоготу, сидел на могиле. Несмотря на август, цветы прижились, а две тоненькие липки красиво обрамляли временный памятник, опускаясь ветвями прямо к скамейке. На следующий год я хотел посадить и сосну.
Могила находилась в глубине кладбища, и можно было часами без помех быть рядом с Анной, беседовать с ней, обсуждать наши планы. Говорил только я, полушепотом, а она молчала, мягко смотря своими темными глазами из-под тонкого выпуклого стекла. Мы говорили на все темы – на такие, которые обсуждались при жизни, на такие, которые возникли позже. Насколько легче оказалось решить проблемы теперь, на полированной дубовой скамейке у могильной ограды! Улажены все вопросы, утихли все споры. Я вещал, я рассуждал, я жаловался. Анна молчала, подтверждая молчанием правоту каждого моего слова. Даже мои упреки встречала она виноватым дрожанием ресниц. Я упрекал немного, но все-таки упрекал. Как могла Анна скрыть свое прошлое, своих родственников? Как смела скрыть? Разве бы я когда-нибудь осмеял ее? Разве отказался бы от нее? Стал бы тыкать происхождением? Дико предположить такое. Выходит, она не верила до конца, сомневалась? Прожила столько лет – и не раскрылась? А может, и впрямь я под конец был немного прав? У нее есть тайна, а у меня быть не может? Не слишком ли? Я успокаивался на мгновение, но тут же, сознавая фальшь своих суждений, неравноценность исходных посылок, стряхивал с себя успокоенность, и тогда память услужливо разворачивала только что угасшую картину: родная сестра Анны с дочерью на руках, не прощаясь, уходит в неизвестность, а я даже не знаю ее имени. И снова сомнения кололи меня тонкими острыми шипами. И так день за днем.
Стелла взирала на мои переживания по-своему. Для нее была прискорбна лишь сама смерть. Простые люди всегда относятся к ней, как к некоему плотскому таинству. Она сказала мне: “Я не хотела ее смерти. Я не виновата в ней”. Но в душе, где-то глубоко в душе, она была довольна, больше того – ликовала: смерть Анны представлялась ей своеобразным воздаянием за гибель Олсопа, тем более утешительным, что и она являлась насильственной. Стелла уже не говорила: твоя овечка, твоя жена – только “она”. “Она думала, она ждала, она умерла”. Последнее – чаще, по поводу и без повода. Мне претило это злорадство, я знал, что Анна никогда не отнеслась бы так к памяти злейшего врага – хотя бы из религиозности. Сравнения были неприятны: они свидетельствовали не в пользу моего выбора, хуже – вкуса. Все былые поступки Анны, ее поведение, речь, выражение лица, интимные полунамеки – все, все предстало в ином свете, предстало женской фигуркой во вспышках бенгальских огней. Горе растворялось, его место заступала острая тоска по утраченному. Я резко ограничил свои походы к Стелле, и у меня не осталось вообще никого, с кем можно было поделиться, посоветоваться, перекинуться парой слов. Наступил полнейший покой – кладбищенский.
В один из таких дней каким-то смутным влечением меня потянуло домой. Не то чтобы остаться там на ночь, а так, хоть подышать домашним воздухом. Я был почти спокоен в тот день. Спокойно прошел мимо ее места. Спокойно зашел в подъезд. Спокойно заглянул в почтовый ящик. Там кроме нескольких газет и цветного плакатика, призывавшего население сдавать пищевые отходы, нашел недельной давности повестку “господину Ричарду Грайсу” с требованием “немедленно по получении сего явиться в районный полицейский участок с удостоверением личности или документом, его заменяющим, на предмет выяснения обстоятельств гибели вашей супруги, госпожи Анны Грайс, 2 сего августа 19… года. Законные власти категорически предупреждают вас, как ответчика, что в случае дальнейшего уклонения от явки, препятствующего нормальному ходу следствия, против вас будет заведено уголовное дело по обвинению в убийстве означенной Анны Клемент Грайс со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями”.
Внизу стояли три подписи, заверенные круглой печатью и еще каким-то чернильным треугольником. Вверху – размашистый гриф: “Лондонское управление королевской уголовной полиции”. Под повесткой покоилось очередное послание Риты: “Мистер Грайс, уж не знаю, куда вы запропастились. Звоню, звоню, замок поцелую – и все тут. Надо вам что-то делать. Они опять заявлялись. Вдвоем. Один – наш инспектор, а второй – и не знаю, кто, строгий такой, в шляпе. Он все молчал, курил только. Инспектор спрашивал, где вы, да когда бываете, да с кем? Я отмалчивалась: не знаю, мол, не слежу. А он велел: как вы появитесь – сразу сообщить в полицию. Свой домашний телефон оставил. Чует мое сердце – добром это не кончится. До чего он рассердился, что вы не пришли! Аж багровый стал. Кричит: «Убил жену – и в песок! Я его, подлеца, на чистую воду выведу!» Весь двор слышал. Я защищать начала, а он на меня: «Вы что, соучастница? Кого покрываете? Я все равно дознаюсь. От меня никто не уходил!» А этот, в шляпе, смотрел так страшно, ну инда насквозь. Я испугалась до смерти. Но они потом ушли. Вы уж не выдавайте меня, ради Бога, с этой запиской-то – порвите ее. Меня и сын ругал, и все ругали, что я за вас вступилась – нечего, мол, выгораживать. Так я теперь вся трясусь – с запиской-то. Уж не подведите. Всего вам доброго. Рита”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу