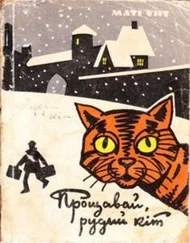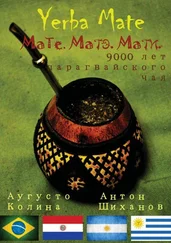Встречался я с ним в то время сравнительно редко, но к новому году понял, что дела его плохи. Видимо, он в университете с самого начала не нашел себя, и это все заметили. В те годы больше внимания обращали на дисциплину, а не на духовность, а его духовность не очень подходила для учебы в университете — по достоинству ее мог оценить я и еще, может быть, несколько друзей, но для вуза она была какая-то эклектичная, староватая. Я-то знал, что Иллимар никогда не отличался особой систематичностью, но то, что я это знал, его никак не оправдывало. Когда он выступил на философском семинаре с сомнительных, ревизионистских позиций какого-то югославского философа (где он его откопал?), преподаватель сказал: беспокойство молодежи — это хорошо. И вы тоже беспокойны. Но подключите свое беспокойство к системе и докажите, что вы правы. На это Иллимар Коонен спросил: что же это, беспокойство, электрическая лампочка, что ли? Его можно подключить к городской сети? Такие эпатирующие заявления, конечно, ничего хорошего ему не сулили. Он часто пропускал лекции и семинары, причем не утруждал себя извиниться или принести медицинскую справку, как другие. Нет, часто во время лекции он демонстративно сидел в кафе, а однажды, дыша винным перегаром, столкнулся в коридоре лицом к лицу с преподавателем, выходившим с лекции. Он как будто сам старался, чтобы ему было хуже. На семинар по латинскому языку он после долгого отсутствия заявился как раз в тот день, когда дали письменную контрольную. Вот и получилось, что к концу третьего курса он не смог сдать экзамены по латинскому и по истории эстонского языка. Хуже того, повторно сдавать оба экзамена он не пошел. Через две недели его эксматрикулировали.
В ту ночь мы с ним долго говорили. Я больше помалкивал, не желая оказаться моралистом, который мелочно ограничивает другому свободу выбора и навязывает ему свои взгляды. Говорил больше он. Не о себе, а все о театре, он был очень недоволен уровнем тогдашнего театра. Говорил, что театру очень не хватает внутренней напряженности, она и в обычной-то жизни самое главное, нужней всего, это единственное, что нас в жизни поддерживает. Наш театр сейчас почти весь мертв, сказал Иллимар Коонен. Он годится разве только для развлечения — это, как известно, потребительское искусство, это не искусство. И продолжал: театр не интенсивен, если он не говорит о деле, если он просто существует, просто экспериментирует, просто выполняет план, просто демонстрирует себя. У актера должна быть своя позиция, свое мировоззрение, своя страсть, актер должен быть гражданином. Иллимар в ту ночь много пил, он сказал, что новая драма сейчас посредством отрицания опять пришла к основным жизненным ситуациям, что Жене напоминает Шекспира, а Беккет — игру старого японского театра Но. Он стал мне пересказывать пьесу Жене « Le Balcon », которая была мне известна. Давай лучше поговорим о твоем выборе, об университете, сказал я, и оставим эту метафизику. Какой еще университет! — заорал Иллимар. Это мертвый университет и таким останется! Мне нельзя туда возвращаться, я выбрал другой образ жизни ( way of life ). Ты жизнь всякого отребья имеешь в виду, сказал я в оскорбленных чувствах. Он с усмешкой посмотрел на меня, как на ребенка, налил себе кофе и сказал: ты признаешь только слова, ты ждешь, что тебе словами все объяснят, ты оперируешь словами и меня провоцируешь отвечать словами, вот из-за этого мы и попали в замкнутый круг и вертимся в этом хороводе, ты на жизнь смотришь как с башни, ты на своей башне спокоен и спесив, ты еще надеешься, что сможешь все объяснить, ты ждешь, что придет время, и ты все неясное объяснишь, все сразу объяснишь или опишешь, ты и не живешь, и другого ничего не делаешь. Да сделай ты что-нибудь! — заорал он. Спрыгни ты со своей башни, или хоть плюнь вниз, или обложи всех внизу, или выше попытайся забраться, но не впадай с молодых-то лет в такое величие! Я выбрал другой путь, сказал он. Я от тебя скрыл, у меня с театром уже тесный контакт, я туда работать иду. Я тебе не говорил, пока окончательно не решу. Потом мы долго молчали. Его обвинения были справедливы в том смысле, что нащупали мое больное место, о котором я здесь, пожалуй, говорить не буду. Скажу только, что и во мне в конце концов жило известное тщеславие, в конце концов и я надеялся сбросить с себя буржуазную шелуху. Мне стало стыдно, что я театр назвал «отребьем». Я сам был поражен тем, как у меня откуда-то из подсознания вырвалось буржуазное презрение к «шуту». Я сказал Иллимару, что отнюдь не предпочитаю литературу и филологию театральному искусству. Кажется, он мне не поверил, подумал, что я хочу прекратить спор.
Читать дальше