Ветви сосен — красные. Хвоя — темная. Лишайник — белый. Небо синее, как свод огромного колокола, опустившегося надо мной, взявшего в плен — сине́е синего синь.
В такой жаре немудрено уснуть. Растаять, уплыть в никуда.
Как на бревне по течению речки — куда? Или откуда? Из чего, во что? И что такое шельма?
Элеонора весь день играла с этой самой шельмой на мшаре.
— Смотри, Юхан! — все повторяла она, но я не видел — что бы это ни было.
А потом она поползла по кочкам на середину еловой мшары, чтобы напиться из родника. Уже в одних полосатых трусиках.
Она ползала и ползала, час за часом, и ела золотые яйца морошки. Или моклаки, как звал их Микке.
Как-то вот так.
Пока не наелась досыта и не почувствовала жажду и не решила, что хорошо бы сделать хоть глоточек, и окунула все лицо в родник, в воду, по которой бегали водомерки. И там, под водой, мох был зеленый, и красный, и белый, и будто живой.
И так до самого, самого — живого — дна.
И волосы Элеонорины намокли, и с прядей вокруг лица — кап! кап! кап!
Родник посреди мшары еловой — и не больше лужи на школьном дворе, и много больше — как младенец в материнском лоне.
И — «шельма» или «сайва» [1] Сайвы — в саамской мифологии: народец, живущий в подводном мире. (Прим. перев.)
, из тех, что живет в подводном царстве, — какая разница, если вот-вот превратишься в медведицу?
Сестренка смеялась и поливала себя, набрав воды в ладони, и где стекали струи — там вырастала шерсть, цвета ее волос. И когти, и медвежья морда, и клыки.
А Микке? Он со страху схватил ее и сжал — не в меру крепко, хотя он ведь по-доброму. Не со зла.
Он хотел удержать ее, а не сделать больно, но вышло как вышло.
Медведица вцепилась в него.
Не разорвала, конечно, нет! А прихватила зубами за шкирку и встала на задние лапы, так что Микке повис в воздухе. По-доброму, не со зла! Схватила мальчишку-сорванца за шкварник да и потрясла как следует — показала силу. Чтоб знал, что ничто от ее глаза не укрылось. Что сама она — как та шельма.
Не со зла, но хватка-то у сестренки была уже медвежья — и вышло все как вышло.
А потом она пришла ко мне. Пришла разбудить своего спящего брата.
— Юхан! Юхан!
Как-то так.
Или почти так. А точнее — вцепилась с тихим рычаньем клыками в мой штиблет и потянула. Легонько так, но все же чувствительно. А когда отпустила, остался след пенной слюны, и я вытер ногу о мох.
Я дал ей отхлебнуть из бутылки там, у коряги, — ее как будто трясло немного. Отвинтил пробку и плеснул немного прямо в медвежью пасть. Мохнатая спина содрогнулась, но она молодец, Элеонора моя, — проглотила, не сплюнула.
А потом она отвела меня к телу.
Микке лежал на животе — хотел, должно быть, втащить ее обратно на кочки. Кружка с отворотами, в которой он держал табак, торчала из заднего кармана джинсов. И весь вид у него был странный — такой, что и мошка на него не садилась, и вокруг было тихо-тихо. Безмолвно. И кепки нигде не было.
Медведица косолапила следом за мной, как будто чуть пристыженно. Я положил цветастый термос обратно в красивый бабушкин рюкзак, а она прихватила с собой одежду и несла в зубах.
Я велел ей надеть штаны, чтобы прикрыть шерсть — хотя бы до дому. Не то чтобы очень красиво вышло, но сгодилось. И жилет свой двубортный натянул на нее.
Остановившись у «хонды», я стал хлебать воду из ручья на дне канавы, но сухость будто облепила весь рот, словно нутро мое забыло, что такое влага. Поднимаясь, я уронил бабушкину шляпу, и медведица, резвясь и мотая головой, подхватила ее, как ни в чем не бывало. И я еще подумал, что жаль все-таки, но ничего не поделаешь.
И следы в грязи за сестренкой оставались медвежьи. Да, да — когти, подушечки лап, все звериное.
Отвязав прицеп от мопеда — прицеп все же был наш, — я повез Элеонору домой. Ее всю знобило и трясло. Миновав Лидбэк, я услышал гром с восточной стороны — над горой Турберьет, где подъемники. Но дождя не было до самого вечера, как я ни ждал. И тем самым вечером я впервые открыл материн несессер. И стал брить сестру свою Элеонору. Сначала спину и подмышки, потом ноги снизу доверху и самое то рыже-мохнатое место между ног. Паховину то есть. Так ведь у зверей зовется — паховина?
Я сбрил шерсть, и она стала как прежде. Отнюдь не красавица. Девочка с заурядной внешностью.
Вначале мы с Фресей на крыльце избушки для лыжников. Кривые бурые доски с краев обжил лишайник, и мы сидим, прижавшись друг к дружке, у двери. Ее голая рука, искусанная мошкарой, рядом с моей, веснушчатой, заклеенной пластырем на локте. Ее — всегда здоровей и смуглей, чем моя. И сильней. Моя — хилая какая-то, да еще и синяки эти ненарочные — мама не со зла, просто сорвалась.
Читать дальше
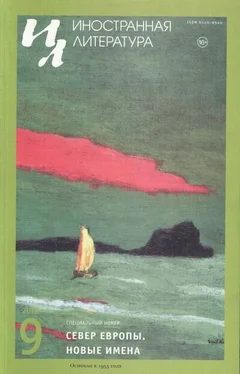








![Петр Павленко - На Востоке [Роман в жанре «оборонной фантастики»]](/books/420864/petr-pavlenko-na-vostoke-roman-v-zhanre-oboronnoj-thumb.webp)

