— Юхан, Юхан! — послышался с морошковой поляны сестренкин голос, а вскоре показалась и она сама, красная, запыхавшаяся, — мы с Микке как-то поленились ответить.
Элеонора, с горящими глазами:
— Я видела шельму, там! — выкрикнула она и махнула рукой куда-то туда, в мшары, в череду прогалин, в довременье. Но я ничего не увидел — ничего такого, что ей привиделось.
А Микке, ухмыляясь и доставая из кармана табак:
— Что это еще — шельма?
А Элеонора его за рукав, за джинсовый:
— Пойдем! — она же малявка.
Идем, идем, иди — все тянула за собой и нудила.
А мы:
— Да погоди…
Как-то так, да.
— Погоди ты, Элеонора, потом…
Элеонорины веснушчатые руки, все облепленные ненасытной мошкой, и нытье — все одно и то же, про какую-то шельму.
А Микке:
— Обожди, слышь? Обожди чуток.
Но она ждать не стала и побежала, надувшись, обратно, к морошке-подружке своей.
Микке припустил за ней. Поймать, намазать бурой мазью. Чтоб под майкой тоже. Круглое пузо и спину, и лопатки Элеонорины — мне все чудилось, будто с ними что-то не то с рождения, а что не то — и не объяснить. То ли размер, то ли форма, то ли как они шевелились.
Оба смеялись, и друг мой охотился за сестренкой моей — понарошку, конечно. Микке знал, как надо с детьми. Терпение особое было у него — или как-то так.
Когда он вернулся, я достал из рюкзака термос. Черносмородиновый морс. Остался с тех времен, когда бабушка еще жила в своем доме и все пополняла запасы снеди в погребе. Горячий морс из бабушкиного старого термоса. И рюкзак тоже был бабушкин — из оленьей кожи, вышитый оловянной нитью. Вещи, оставшиеся с добрезентовых времен, когда люди еще знали, что такое идиллия на природе, и ходили в настоящие походы. И термос был изукрашен цветами. Цветами! Бабушка моя, старушка, знала толк в красивых вещах.
А у Микке была красная плошка с отворачивающимися краями, в которую он прятал табак и совал в задний карман джинсов. Но это не для нас, мы с Элеонорой пили из бабушкиных деревянных кружек.
Горячий черносмородиновый морс плюс капля «коскен-корвы» — вот что мы разливали по кружкам, сидя на согретом солнцем сосновом стволе среди мшар. В разных, правда, пропорциях: Микке больше уважал водку, а я все-таки морс. Или, скорее, смесь. На вкус — почти как «крем-де-кассис». Утром я положил в рюкзак бутылочку «бордо», штопор и все такое, но после прихода Микке провиант пришлось поменять. Он ведь такой:
— Выпендреж! — и смеется.
Как-то так.
А горячий морс я припас для Элеоноры. На случай, если замерзнет, наверное. Но теперь уж решил, что можно и его выпить — кто же замерзнет в такой денек! Мы чуть ли не сварились заживо на этих мшарах.
И я старался разговорить Микке, но он все больше косился на сестренку. Она к тому времени скинула кое-что из одежды — ноги, например, голые были, — и Микке, наверное, волновался из-за мошкары. Но молчал. Только по башке меня опять треснул — сильно! — когда я достал из рюкзака и надел бабушкину клетчатую шляпу от солнца. Шляпа слетела и откатилась на пару метров, к мшаре, остановившись у росянки. Я встал, чтобы ее забрать: не люблю я, когда кожа сгорает докрасна. Хотя Микке этого, наверное, не понять — ему все нипочем.
Но какая красавица эта росянка! Алчное растение, сплошь покрытое росинками сладкой слюны. Капли приманки меж розовых мягких шипов. Притаившийся охотник: только коснись его насекомое — створки сомкнутся.
Шляпы бабушкины были хороши: и сидеть на такой шляпе можно, и обмахиваться, и на голову надеть. Что бы Микке ни говорил.
Хотя он уже успел уйти — туда, к сестренке моей. Встал сразу, как только шляпа улетела. И долго не возвращался.
Был там с ней.
Смотрел, куда она указывала, и говорил, наверное, что видит и то, и это. Притворялся, играл.
Я взвесил бутылку в руке — Микке выпил уже половину. И бровью не повел — подумаешь, шестидесятипроцентная «коскенкорва» прямо из граненой поллитровки. Для Микке это, видно, сущий пустяк.
Граненая, но с закругленными ребрами — чтоб удобней держать. Красная этикетка с серебряным змеящимся узором: гербовые щиты, королевские знаки. Лев с мечом в лапах. Корабль. Великан с палицей и олень, пляшущий на задних копытцах. Благолепие прямо-таки соборное. Но каждый глоток будто комом в горле вставал. Так я и не выпил почти ничего — так, пару раз пригубил и лег прямо на ствол: поначалу было жестко, а потом устроился получше, подстроился — влился, что ли, в него.
Лежал так, открыв глаза всему огромному, синему — и золотому рою пушинок-насекомых. Светящемуся столбу, поднявшемуся над мшарой и танцующему надо мной, как тот олень на бутылке. Звон прозрачных крыльев рождал тихую музыку, и толстые шмели сновали туда и обратно сквозь протяжное пение мошки.
Читать дальше
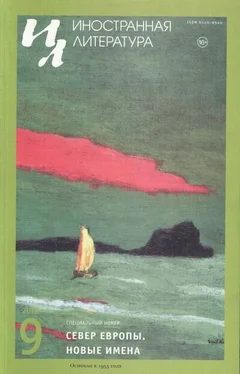








![Петр Павленко - На Востоке [Роман в жанре «оборонной фантастики»]](/books/420864/petr-pavlenko-na-vostoke-roman-v-zhanre-oboronnoj-thumb.webp)

